Теплый шевиот его коленей
…Водной стихии в этой книге повестей и рассказов хватает с избытком, ведь автор и его проза родом из города, так сказать, на Неве, и уже в предисловии «монах спросил: «Скажите, а верно, что Ихтиандр нырнул на самое дно морское?»
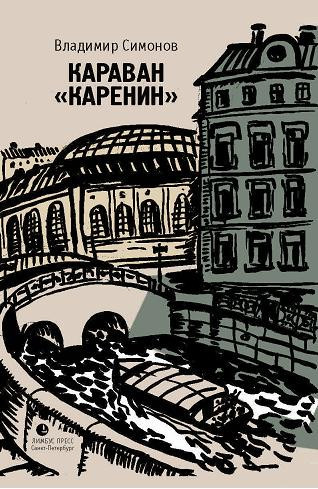
Сам автор книги ныряет глубоко, хоть и в воду питерского канала «цвета больничного чая». Снаружи у него по-прежнему «моросило с утра», «лениво накрапывал теплый дождь», «за окном в темноте шуршал дождь», «дождь не переставал», «дождь разошелся не на шутку». И кого же в результате мы обнаруживаем в его сетях? Признаться, так же, как «недалеко протекала река, и дно канавы влажно поблескивало, отражая праздничные фонарики и гирлянды», проза самого Симонова, особо не отвлекаясь на звук однофамильца, напоминает черт знает какие прелести стиля. Здесь и Кузмин, и Белый, и прочие декаденты, особенно в повести «Борис в Кяхте». Особенно, когда «она долго болела, лежала, опять болела и опять лежала и вот теперь, покачиваясь и взмахивая руками, в реденьком свете утра, шла, стараясь попадать в глубокие следы, протоптанные Белянчиковым, но не попадая в них»
А так, конечно, фирменный стиль Симонова — это вневременная территория памяти о барском прошлом, описанная с коммунальных позиций несчастного интеллигента «из бывших». Причем, неважно — советских, или не очень. Главное, внутренняя память, движущаяся по «злоумышленно переведенным стрелкам» — как у другого метра питерской школы, Павла Крусанова, в «Другом ветре» — о тех местах, где герой в этой жизни никогда не бывал, но точно помнит, какого цвета там обои на стенах.
А ведь почему так, знаете? Неужели в новых временах для литературы не осталось фактов, и все бросились вспоминать вкус детсадовского печенья и звук лопающейся резинки от трусов? Ремонт воды, убежавшей вместе с корабликами в канализацию памяти, конечно, благое дело, но не в современной же словесности, когда им занимаются молодые, казалось бы, люди. Речь, естественно, не о Симонове, он знает ответ, хоть как раз ему простительно, и сам Ленинград-Петербург исторически всегда способствовал детским страхам в колыбели Революции, но почему другие-то? «Господи, да ведь я просто перестал отбрасывать прошлое», — ужасается герой «Каравана…» Ну, то есть, расслабился и дал овладеть собой воспоминаниям, смешав прошлое на барском пляже с утренней сдачей стеклотары.
Понятно, что в дальнейшем книга Владимира Симонова полна этого самого непротивления злу «памяти», застящему все «новое» в жизни и литературе. «Что оставалось ему делать, как не продолжать путь, точно все это его не касается, оставив на произвол судьбы несчастных пресмыкающихся и гадов?» — подсказывает маршрут Добужинский в одном из эпиграфов к этой необычной книги. Да и может ли быть иначе, когда «так светил фонарь, что казалось — снова зима», «когда заносит на поминки человека, которого никогда не знал, и всегда почему-то напиваешься вдвое», «когда с грохотом полетел стол, чашки, все метнулись, прилипли к стенам», а «он огляделся — как на необитаемом острове».
Но даже если в этой прозе появляется женщина, то черный пес Петербург все равно обнюхивает ее с подозрением, да и поделом. Злые они тут, злые и неблагодарные, им карамельного зайца еще во времена Крусанова приносили, а они местных героев отправляют в изгнание, на сундук. «Как всегда, все решила Нинка, якобы вычитавшая в
И поэтому, честно говоря, иногда кажется, что это под таким серьезным псевдонимом пишет Николай Кононов, опять-таки, когда «застегивая рубашку, он оправдывался, но чувствовал себя все более и более неуверенно, и доктор, замечая это, сердился все больше». Или когда «он опять замахнулся, но тут, медленно так, отделился от шкафа Касьян, как танцор, и
И еще вот этот вечный вселенский надрыв — ну, если чаю не дают, будем водку пить! У Симонова, правда, немного иначе, но все равно через ЖЕК небесная канцелярия работает. «Сначала пили чай, потом вдруг Касьян сорвался варить лапшу, но не рассчитал — бухнул целую пачку, и теперь она стыла перед ним с воткнутой вилкой». Да разве это важно, скажете, если журавли улетели? Или вот баба Нюра, «сложив руки на коленях, помолчала и наконец сказала со вздохом, негромко, но отчетливо выговаривая слова: — Мы дружно жили… И братья приезжали, и мать на моих руках умерла. А еще раньше с хлебом ели, как в фильме «Горько!»
И поэтому правильно — Гоголь с «легионом элегантных пишущих мужчин, шумевших перьями», Чехов и жена Соня, которая «увеличивает однообразие моей жизни», стоят в таких случаях во главе угла подобной прозы и заодно над душой автора. Ну, еще бывает Вольтер. Или Каренин, который не караван, а
