«Американский психопат» Брета Истона Эллиса – Взгляд Зла на лице Другого. Часть 2
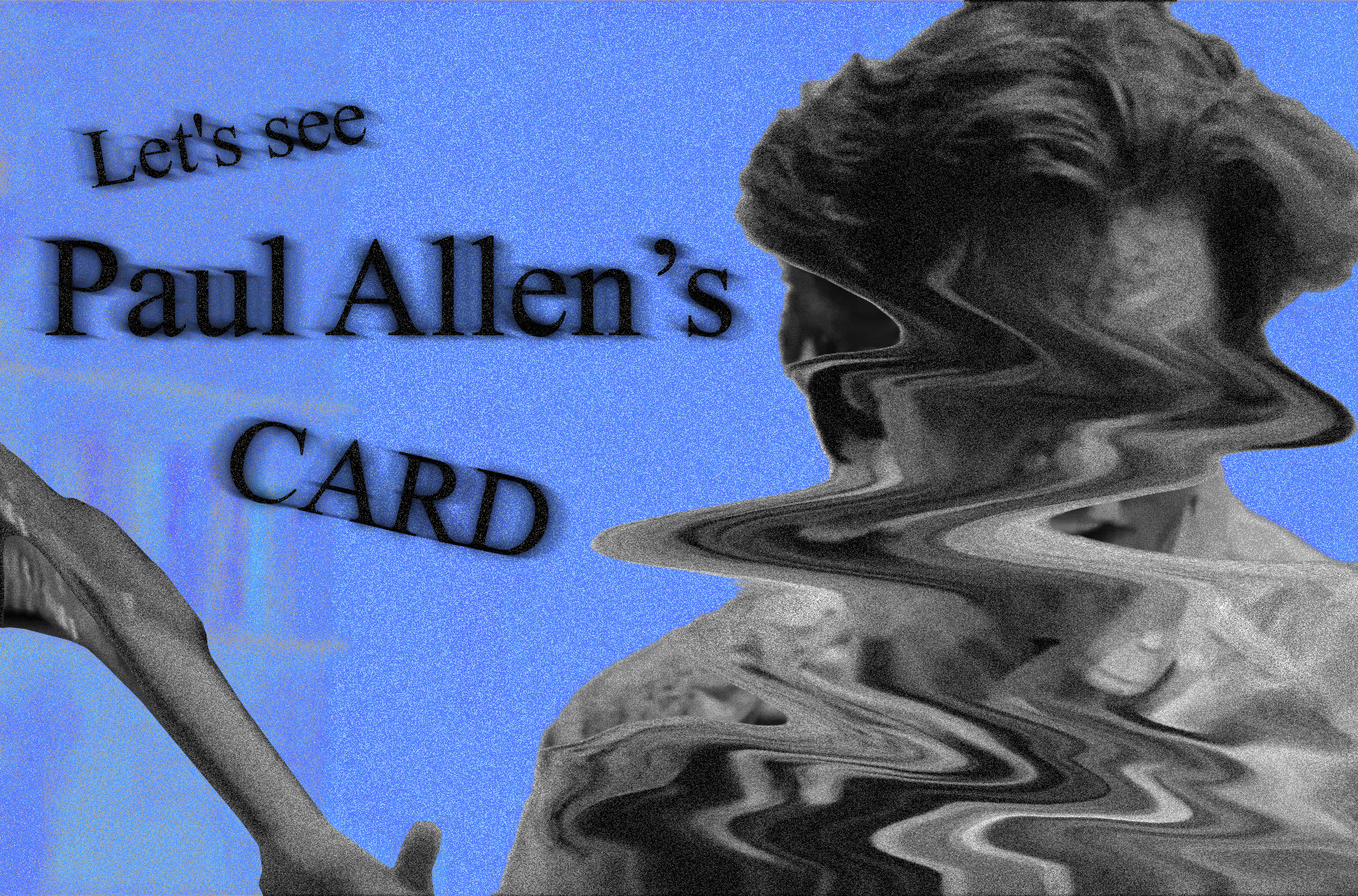
- В поисках утраченной Смерти, или Фото на память
- От ненависти до ненависти к самому себе один шаг
- В мире Злого Бога
- «…существует представление о Патрике Бейтмане»
В поисках утраченной Смерти, или Фото на память
Как раз-таки поэтому другим важным лейтмотивом романа являются видеокассеты (с фильмами ужасов и извращёнными поджанрами хардкор-порно) и постоянное стремление Бейтмана вернуть их в прокат. Фильмы отличны от фотографии за счёт того, что они взаимодействуют с образами через движение и время (Образ-движение и Образ-время), которые символически обозначаемы монтажом и самим экраном, наличием диегитического пространства по ту сторону от нас. Кажется, уже сам этот факт делает невозможным наше восприятие кино как тотема Смерти, которая доминирует над движением, повелевает королевством статики и стазиса. Однако здесь важно не столько то, что разделяет кино и фотографию, сколько то, что их объединяет. Фотография (как и киноэкран) является непреодолимыми границами с тем самым, Другим, миром, точнее порталом в этот мир, преодолеть который можно только лишь умерев. Как пишет Барт в «Camera lucida. Комментарии к фотографии»:
«…как только я чувствую, что попадаю в объектив, все меняется: я конституирую себя в процессе «позирования», я мгновенно фабрикую себе другое тело, заранее превращая себя в образ. Такого рода трансформация играет активную роль: я ощущаю, как Фотография творит или умерщвляет мое тело в свое полное удовольствие (притча об этой умерщвляющей силе: некоторые из коммунаров собственной жизнью заплатили за то, что охотно позировали на баррикадах; после поражения Парижской коммуны они были опознаны полицейскими Тьера и почти поголовно расстреляны)»[1].
Не потому ли так часто многие из нас не любят фотографироваться и испытывают чувство глубочайшей тревожности (anxiety) в момент срабатывания затвора на фотоаппарате? Словно мы подсознательно понимаем то, что должно вот-вот случится. Нас пугает даже сама мысль об символической смерти, которая для нас будет означать смерть Воображаемую, фантазматическую. Барт рассказывает о том, как Фотограф пытается противостоять этой Смерти, он «…ведёт титаническую борьбу за то, чтобы Фотография не стала [Ей]. Но, обращённый в неодушевлённый предмет…», Барт «уже не борется», потому что убийство уже произошло. В этом и заключена большая разница между картинами и фотографией. Позируя для художника, мы точно также конструируем свой образ, устанавливаем диктат того, как мы бы хотели, чтобы другие видели нас (потому что мы сами себя так видим), но с фотографией всё иначе. Фотография — это не результат нашего собственного конструирования, но само конструирование, момент мгновенного «схватывания», как это называет Барт, над которым мы лишены всякого контроля. Мы становимся низведёнными до ранга процесса, алгоритма, и это пугает нас до тех пор, пока мы окончательно этого не по/при нимаем.
В этом смысле кино оказывается даже более жестоким, потому что оно апроприирует не только наше тело, но и наши движения, время, искажая их, превращая нас в $, перечёркнутый субъект, как в сцене побега Бейтмана в $ превращает Закон, лишая легитимности его садистскую фантазию. Так, по утверждениям многих киноактёров, они сами не пересматривают фильмов со своим участием (когда их к этому не принуждает сам Капитал в лице многочисленных интервью и промо-кампаний). Не потому ли, что их игра сколь хорошей (точнее, плохой) бы она ни была, является как раз-таки тем сознательным умерщвлением самого себя? Мазохистским самоубийством-развлечением на потеху публики, которая платит им за это, как платят для того, чтобы посмотреть, как дрессировщик засунет свою голову в разинутую пасть льва? Это смертельный номер, трюк, который позволяет нам подойти к Смерти вплотную, умудрившись при этом избежать столкновения с ней, словно мы сумели обмануть Её. Какое же облегчение[2] наступает для тех, кто наблюдает за тем, как он спокойно вытаскивает голову из бездны символического (того, что для нас невидимо, находится по ту сторону за кожным покровом и шерстью)!
При этом наше наблюдение достигает вершин абсолютно непристойного наслаждения, когда мы осознаём, что не только Фильм, как символический синоним влечения к смерти, овладел сущностью Бейтмана, но и сам медиум, на котором эта самая Смерть воспроизводится. Видеокассеты — это та самая форма, которая приближает Фотографию к Фильму самым непосредственным образом, наделяя образы физическим естеством, расщепляя сам Фильм, как перечёркивают субъект. Плёнка, как символ вечной Смерти, влечения к Ней, тотема, обладает непревзойдённой важностью для Бейтмана, ведь именно она отождествляет экран телевизора с ощутимой карточкой Фотографии. Потому, под конец книги, пытая и убивая очередную жертву, Патрику больше недостаточно этого, и он включает запись другого убийства, совершённого им самим ранее. Плёнка полностью захватывает его. Ведь именно на ней Смерть достигает своего совершенства. Бейтману мало самого достижения иллюзорного наслаждения, ему нужно, чтобы желание вновь и вновь воспроизводило желание желать. Только так он достигает истинного jouis-sense, когда совершает убийство под запись другого убийства, не потому, что видит само наслаждение в своей извращённой, забавной логике, а потому, что само убийство лишается своей фантазматической основы и имеет смысл только в контексте поклонения настоящему тотему Смерти. Настоящим он (тотем) кажется для Бейтмана именно потому, что является проекцией, идеальной моделью самых сокровенных его фантазий, которые даже гипотетически не могут «споткнуться» о Реальное. Более того, плёнка, точнее заснятое на неё, ею обозначаемое существует только лишь в царстве Прошлого, как уже и очевидно произошедшее, а потому — цельное и неизменное, вновь перекликаясь с влечением к смерти, как со стремлением вернуться назад в детство, переродиться. «Он уже мёртв, и ему предстоит умереть»[3], говорит Барт, глядя на фотографию осуждённого к казни и запертого в своей камере[4], сидящего там в ожидании смерти. Это не просто красивая рекурсия, а самое настоящее продолжение мысли о том, что Смерть непосредственно является частью общей тенденции, находящей свои истоки в Символическом, вечно преследующей нас и предупреждающей о неминуемом исходе. Таким образом для Бейтмана навязчивая мысль о возвращении плёнок в видеопрокат (и само возвращение –необходимое, поскольку в сознании Бейтмана оно — неминуемое) — это не просто камень, который Сизиф[5] Камю вечно тащит в гору. Это ещё и своеобразный ритуал поклонения, религиозного отчаяния, позволяющего Бейтману вновь и вновь находить силы для поиска φ, Воображаемого фаллоса. Поддерживать иллюзию бытия объектом, который повинуется воле большого Другого по своему собственному желанию.
От ненависти до ненависти к самому себе один шаг
Тем не менее эти потуги оказываются для Бейтмана бесплодными, и он подсознательно отдаёт себе в этом отчёт. Именно это понимание и является источником его ненависти и гнева по отношению к самому себе, источником собственного разочарования. Этот факт ещё больше вписывается в концепцию того, что Патрик — это определённо нарцисс. В «Искусстве любить» Фромм отмечает, что:
«[э]гоизм и любовь к себе не только не идентичны, они на самом деле взаимно противоположны. Эгоистичный человек любит себя слишком слабо, а не слишком сильно. Отсутствие заинтересованности в себе и заботы о себе, явное нежелание что-либо созидать опустошают его и разрушают. Эгоист неизбежно несчастен и отчаянно стремится урвать у жизни удовлетворение, которое сам же не даёт себе получить.
Кажется, будто он слишком заботится о себе, но на самом деле это оказывается безуспешной попыткой прикрыть и компенсировать свою неспособность заботиться о собственном Я. Фрейд утверждает, что эгоист нарциссичен, поскольку лишает своей любви других и обращает её на себя. И хотя верно, что эгоистичный человек не способен любить других, он не способен любить и себя тоже»[6].
Подтверждение тому, что Бейтман подсознательно испытывает к самому себе глубокое отвращение имеется непосредственно в книге. Так Бейтман глубоко ненавидит своего брата Шона, который по факту ничем от него самого не отличается. (Эта сцена, как и сцена встречи Бейтмана с матерью, увы, отсутствуют в фильме.) Шон принимает абсолютно те же наркотики, точно также бессмысленно прожигает свою жизнь, живя за счёт других (тот факт, что у Бейтмана есть работа, взаимоисключается тем, что он никогда ей не занимается, умудряясь при этом и дальше получать зарплату), сексоголик и наделён чертами социопата. Ненависть Бейтмана распространяется и на то, что якобы формирует его личность, а именно на работу. Несколько раз на протяжении романа Бейтман прямым текстом признаётся в этом своим коллегам и знакомым, признаётся мельком, как бы случайно, словно это шутка, которой разряжают обстановку в незнакомой компании. Он ненавидит свою работу как раз-таки потому, что она является частью его сущности, и именно поэтому никак не желает её бросать, как бы в наказание себе, создавая очередную рекурсию. Более того, не имеет абсолютно никакого смысла то, что именно это за работа. Он никогда не обсуждает работу со своими коллегами, только то, что происходит вокруг неё. Для Бейтмана нет никакой разницы до тех пор, пока эта «работа» является для него мучением. В этом плане Бейтман непосредственно следует апостолу Матфею, «обращая другую щёку», но не в знак любви и прощения, а как символ непосредственного самобичевания, заслуженной боли и насилия ни поддерживаемого Законом, ни поддерживающего Его.
В мире Злого Бога
Гностики верили, что наш «реальный» мир — это в первую очередь владения дьявола, своего рода Злого Бога, в то время как тот мир, который ждёт нас после физической смерти, является Царством Божьим, подчиняющийся только Его законам, и вхож туда только лишь тот, кто избран, «просветлён» с рождения. Из этого следует, что Бог не имеет возможности напрямую влиять на наш мир, так как он находится вне зоны Его полномочий. Богу остаётся только быть сочувствующим наблюдателем творящихся с нами несчастий, которым некоторые из нас стоически пытаются противостоять. Божественные чудеса потому возможны только для тех, кто истинно верует, ведь именно в их глазах они скрываются за поверхностью «совпадений» и «случайностей».
Безусловно, рассмотрев «Американского психопата» с точки зрения стремления смертью, становится важным рассмотреть и его возможную теологическую основу. Возможную не в том плане, что автор непосредственно стремился передать некий духовный опыт, а в том смысле, что сама концепция Смерти флюидна, и потому нам следует искать неожиданные ответы там, где непосредственно сама Смерть оказала своё трансцедентальное влияние. Сам Эллис признавался, что роман является для него крайне личным и интимным опытом. Патрик Бейтман возник в его сознании, как его собственный образ, берущий своё начало из «места крайнего отчуждения, одиночества и отвращения к самому себе», как определённая попытка фрейдовского переноса, если не на какой-то объект или реальную личность, то на личность выдуманную, подобно гомункулу в «Фаусте» неидеальную, искусственно созданную, но при этом достаточно реалистичную для того, чтобы воплотить в ней её собственную волю. Сам Эллис утверждает, что «Уолл-стрит» и образ его собственного отца были лишь попытками скрыть эту попытку переноса, не брать всю ответственность на себя, замаскировав её под своеобразный жест символического обмена. Но не стоит так спешить с тем, чтобы принять слова Эллиса за чистую монету. Безусловно, сами по себе «Уолл-стрит» и образ отца Эллиса мало что общего имеют с ним самим, но являются чёткими элементами его окружения, точно так же, как и в романе чёткую роль играет образ Отца (точнее его отсутствие), и сама Уолл-стрит является символической декорацией того греховного мира, в который был выброшен Бейтман (как и был когда-то сам Эллис).
Во многом грешный мир Эллиса подобен миру Злого Бога гностиков, как раз-таки потому, что в нём также нет места даже для трансцедентальных, субъективных чудес Бога. Это и есть последняя станция, тот чертог, откуда нет выхода. Тебе либо повезло родиться в мире, где царит вечный jouissance, либо оказаться в месте, где он строго запрещён, как и запрещено любое стремление, действие-влечение, которые могут спровоцировать состояние наслаждения. Говоря гегелевскими терминами, запрещена сама реализация человеческого потенциала, потому что сама эта реализация невольно провоцирует развитие, а значит — движение последующего, непристойного стремления. Мир Злого Бога — это мир всепоглощающего Капитала, диктат которого ввёл имманентный стазис. Тех, кто стремится в нём исчезнуть, Капитал поощряет мнимым чувством удовлетворения, в то время как «непослушных» Он просто пытается купить. Так «работа» — эта исключительно символическая плоскость романа, в которой Бейтман обязан вести себя так, как от него ожидают, точнее ожидает Капитал. Ему необязательно что-то при этом делать, действительно выполнять какую-то работу (более того, это даже противопоказано). По сути ему платят просто за то, что он есть таким, каким он вынужден притворяться. На протяжении всего повествования нам так никогда и не скажут, чем на самом деле занимается Бейтман. Его должность, как и его обязанности и поручения попросту не имеют никакого значения ни для повествования, ни для самого Сюжета, а потому оказываются в области онтологической пустоты. Они вовсе отсутствуют, точнее не существуют в том плане, что не существовали по большому счёту никогда[7]. Наглядной в этом плане является сцена, когда после убийства Пола Оуэна Бейтман отвечает на звонок своей невесты Эвелин, обиженной на него и возмущённой из-за того, что Патрик проигнорировал запланированный ими на вечер ужин. Успокоившись, Эвелин тем не менее хочет добиться от Патрика встречи на следующий день, от чего Бейтман пытается увильнуть под предлогом своей загруженности на работе. «Ты ведь почти хозяин этой чертовой компании[…] Какая работа? Чем ты занимаешься? Я не понимаю», стонет Эвелин, и этим всё сказано. Это глупый, материалистический мир, феноменологически идентичный хардкорным порнофильмам. Точно так же Капитал создаёт обманчивое восприятие, пытаясь поймать нас в логическую ловушку. Замечали ли вы, как в порно именно мужчина подвергается объективизации (его лицо всегда скрыто от Взгляда камеры, его личность упрощена до самого фаллоса, который входит в женщину и т. д.), а не женщина? Именно она, находящаяся в центре Взгляда Другого, как бы тем самым выражает свою субъектность. Но не стоит так спешить с выводами! На деле это ещё бо́льшая степень объективизации, потому что она предполагает насильное конструирование фальшивой субъектности, превращая её тем самым в сам товар[8]. И Бейтман, и его окружение являются такими же порноактрисами. (Может также и в этом заключена причина одержимости Бейтманом видеокассетами с БДСМ-порно и фильмами ужасов?) Но Бейтману не нравится эта роль, потому что он понимает её суть. Его ненависть распространяется и на себя самого в том числе, потому что в нём ещё осталась самоосознанность, как и осознанность того, что позволяет Капиталу манипулировать им и «разрешать» Ему прислуживать. Удивительно, но в таком свете Бейтман оказывается чуть ли не самым благочестивым из всех остальных персонажей, которые покорно соглашаются на свою роль. Бейтман — воин, война которого никогда не заканчивается и никогда не меняется, где бы он ни был. Его скрытые презрение и отвращение к себе — это не только его попытка выжить в мире, который зиждется на нежелании созидать ни в каком виде, пребывая в состоянии вечного стазиса; это вызов и протест. Патрик — это потерянное поколение 2.0 Оно не просто спивается в надежде умереть, оно не верит в Смерть, точнее не верит в то, что для его представителей доступна какая-либо Смерть, как если бы их души, покинув тело, продолжили бы страдать в вечном бесцельном паломничестве по миру Символического. (Не зря в назидание всех героев романа постоянно преследует реклама мюзикла «Отверженные» по одноимённому роману Виктора Гюго, симптоматически взрезая иллюзорную поверхность «нормального». И только Патрик оказывается единственным, кто в состоянии заметить и обозначить её.) Потому те немногие, как и Бейтман, возводят Смерть других до состояния ритуала, религиозного опыта, жертвоприношения, благодаря которому они надеются ублажить Злого Бога, чтобы Тот позволил им обрести свою Смерть и оказаться в чертогах Бога благодатного. Иными словами, вопреки всем ожиданиям Патрик как раз-таки видит своих жертв, как выразился Жижек, «не объектом желания, а идеальным желающим субъектом, субъектом переноса, который «должен знать (как желать)». Да, разрушение и тотальное уничтожение — это не выход, но что ещё остаётся Бейтману? Если я не имею права создавать, то я буду бороться с этим, сея хаос и разрушение там, где в принципе отсутствует что угодно (отсутствует возможность создавать не потому, что это наказуемо вечным разрушением, а потому, что не запрещена сама концепция конструктивного). Как это делали, например, баски и ирландцы. Таким образом нигилизм Бейтмана — это не попытка легитимировать свою ненасытную жестокость, точнее попытка легитимировать не саму дозволенность этого процесса, а его необходимость, так как только в таком отчаянном акте Патрик видит самый радикальный акт противостояния тому миру, который как раз-таки и делает имморалистическое разложение общества возможным.
Однако тем самым Бейтман позволяет ещё больше загнать себя в ловушку, оказаться расщеплённой личностью, в которой стремления субъекта уживаются с состоянием объекта, существуют параллельно полному отсутствию субъектности. Так мы видим, что не только Бейтман, весь Нью-Йорк буквально одержим пламенем. Это жар, вызванный воспалённым сознанием стремящегося освободиться от оков Реальной смерти, совершив смерть Символическую. Но Капитал не позволяет им сделать и этого. Закон, который непосредственно подчинён Капиталу, не пресекает их «преступные» действия. Разрушительная сила Танатоса не находит своего логического завершения. Не следует неизбежного наказания, отчего ставится под вопрос сама эффективность такого бунта (как и возможность достигнуть хоть какого-либо разрешения вообще, возможность прорваться по ту сторону Реального). Сам бунт превращается в такой же товар, как и всё остальное, лишаясь своего заложенного освободительного потенциала, радикального разрешения. Иначе почему почти в самом конце романа узнавший в Бейтмане убийцу своего коллеги таксист не везёт его в полицейский участок, а вместо этого «мстит» тем, что обворовывает его и оставляет на обочине? Или же это сам символический Закон, в очередной раз унижающий Бейтмана за его стремление вырваться из-под гнёта Капитала? Более того, вспомните сцену, когда Бейтман в очередной раз возвращается на квартиру Пола Оуэна (в главе, которая неиронично называется «Лучший город для бизнеса»), где он до этого устраивал кровавые бани. К его собственному удивлению квартира оказывается полностью убранной и обставленной букетами роз, чей «запах чувствуется и в коридоре». Бейтман шокирован, он в ужасе, но, что самое важное, его «внезапно охватывает жалость к самому себе», как бы предчувствуя неожиданную встречу с женщиной-маклером, миссис Вулф, которая занимается продажей квартиры, которая раньше принадлежала Полу Оуэну. На вопрос Бейтмана: «Разве Пол Оуэн не живёт здесь?», она отвечает отрицательно и как бы
«…осознает нечто, заставляющее напрячься мускулы на её лице. Глаза суживаются, но не закрываются. Заметив хирургическую маску [предназначенную для того, чтобы скрыть запах гнили], которую я сжимаю в потной руке, она тяжело, порывисто дышит, не желая отводить глаз»[9].
Бейтман в отчаянии и панике. Что же он увидел в глазах миссис Вулф? Уж не тот ли это Взгляд Другого, который мы уже видели на фотографии Фааса, который преследовал Бейтмана всю жизнь с фотографии его Воображаемого отца? Взгляд полный всепоглощающего ужаса и Тьмы?
Интересной особенностью романа (и в несколько меньшей степени — фильма) являются попытки Эллиса внушить нам уверенность, что Бейтман сходит с ума. Здесь проза Эллиса перекликается непосредственно со смысловыми исследованиями Сорокина, в которых он пытается найти ответ на вопрос: когда абсурд и нигилизм окончательно становятся чистым безумием? Где пролегает эта грань между очередным подмножеством элементов и управляемым сюрреалистическим хаосом, когда происходит диффузия и стройная иерархия вещей сменяется бредовой шизофазией больного Разума? Но что, если это вторжение фантазматического больного Разума на самом деле является как бы неким подмигиванием со стороны Злого Бога, большого Другого этого мира, подглядывающего за нами через щель, разлом в реальности, находясь по ту сторону в доонтологическом Царстве мёртвых? Заметьте, что в отличии от тех же классических ненадёжных рассказчиков Набокова Бейтман непосредственно становится свидетелем собственного обмана реальности. Для нас парадоксальным образом это не оказывается неким откровением. Если мы вспомним, то, как правило, герои Набокова, которым дают слово, это определённо консервативные интеллектуалы и педанты. Они усердно конструируют свою эскапистскую, абсолютно «нормальную» ноосферу, создавая тем самым структуру, лишённую каких бы то ни было травм, с нуля, из-за чего разрушение всех иллюзорных конструкций, когда оно происходит, возвращает нас к точке отсчёта. Однако именно своей нормальностью эти истории и нервируют нас, доказывая идею Лакана, что нормальность — это особая форма психоза, когда самое сокровенное, символическое оказывается подавленным, потому что его есть[10] за что подавлять. За обличением Бейтмана не стоит ничего, за этим не скрывается некая раскрывающая самую суть его психотического состояния «правда»[11], первопричина, которая для ненадёжного рассказчика служит непосредственным наказанием. Именно поэтому главный страх Бейтмана заключается не в том, что его гипотетически могут раскрыть, обвинить во всех преступлениях, оборвав жизнь, и даже не в осознании, по/при нятии той доисторической бесчеловечности, того ужаса, которые он совершил с другими. Нет. Животный страх Бейтмана вызывает уже предположение того, что все совершённые им зверства являются всего лишь его больной нереализованной фантазией, что за его «грехами» не последует мгновенной кары, вообще никакой кары. Что его бунт останется без внимания большого Другого, за скобками, оказываясь на самом деле такой пустышкой, какой поощряют Бейтмана быть. В глазах Бейтмана его потуги кажутся невероятно изобретательными и ловкими (вспомните хотя бы то упорство, с каким Бейтман претворяет в жизнь схему[12] по утилизации трупов своих жертв в заброшенном здании в районе «Адской кухни»), но Капитал только лишь позволяет Бейтману это делать, наблюдает за ним, как за потугами ребёнка, который ужасно плохо играет роль в детсадовском утреннике. Его страшно не хочется расстраивать, но только до тех пор, пока нам это не надоедает, и мы не наказываем его, рассказав всю правду, обличив топологически отличную от его Воображаемой Реальную сцену. Мир как бы издевается над Бейтманом и потому оказывается основан на логике непристойного бессмертия. Сколько бы Патрик не убивал людей, их увидят на другом конце света. То, чего так страстно добивается Бейтман (перерождения), ему не позволено. За попытки завладеть этим объектом-причиной желания его наказывают тем, что отдают objet petit a другим — обезличенным толпам и ходячим костюмам без головы, которые заменят пропавшего, даже не заметив его исчезновения. Этим пытался воспользоваться и сам Бейтман, когда после убийства Оуэна приехал к нему на квартиру и превратил её в свою «точку», место, где мог позволить себе разгуляться на полную. Бейтман не просто апроприировал его собственность, он перенял личность Пола. Отчасти из мести за конформизм, отчасти из-за желания его полного стирания и собственной конспирации, ведь полностью избавиться от чего-то можно только лишь став самой этой вещью, убив свою собственную субъектность и адоптировав чужую, лишая уже тем самым её непосредственной Реальной опоры. Для чего иначе Бейтман оставляет[13] на автоответчике Оуэна запись с тем, что тот уехал в Лондон и не сможет отвечать на звонки, если не для того, чтобы одурачить самого Злого Бога, избежать его всевидящего Глаза, притворившись другим?
Но все эти попытки оказываются тщетными. Ничто и никто не может избежать манипуляций над самим собой, избежать ту волю-к-наслаждению, которая уже заложена в самой сущности Злого Мира, симптоматически проявляющейся через Закон. Война Бейтмана (и подобных ему) разбивается о скалы реальности, в которой война давным-давно проиграна, потому что с самого начала она была срежиссирована большим Другим. Мир «Американского психопата» — это проклятый мир, забытый, оставленный без божественных чудес, откуда нет ни малейшей надежды найти выход.
«…существует представление о Патрике Бейтмане»
Казалось бы, что на этом моменте можно было бы приступить к выводам, но тем не менее мне кажется важным сделать некоторое отступление и обратиться непосредственно к экранизации, которую мы до сих пор рассматривали крайне ситуативно.
История вокруг киноадаптации «Американского психопата», точнее сама её аура представляет довольно редкий случай того, как мы воспринимаем то, что Бодрийяр называл объектом и его симулякром (а именно с одним из его порядков). Довольно часто взаимоотношения между этими двумя вещами развиваются по одному из двух сценариев:
- Культовый, обласканный критиками и читателями первоисточник становится основой для экранизации, обречённой в равной степени на оглушительный успех и на непростительный провал (причём провалом это будет восприниматься даже в том случае, если адаптация окажется проходной, невпечатлительной вспышкой проектора, ведь сам первоисточник, его вездесущее влияние и важность не могут предполагать меньшего, чем феноменологически тождественный успех киноадаптации).
- Основополагающей причиной онтологического значения первоисточника оказывается сама экранизация. Иными словами, наличие литературной основы оказывается для нас откровением, в котором ведущую, точнее диктующую роль играет именно экранизация. Удивительным образом ведо́мое и ведущее меняются местами. При этом сама книга (или любой другой вид основы) может обладать всё теми же характеристиками «культовости», которые при ближайшем рассмотрении оказываются мнимыми (верхние строчки списка бестселлеров, большие продажи и т. д.), лишёнными непосредственной символической глубины.
Но имеется и третий случай, который является редкостью, и потому представляющий для нас особый интерес. В каком-то смысле первоисточник оказывается наделённым столь сильной аурой, что она буквально вмешивается в производственный процесс на метафизическом уровне, из-за чего конечный продукт оказывается в несколько подвешенной ситуации. Зависимость исчезает, и само содержимое, сама суть первоисточника становится своего рода перечёркнутым субъектом ($), двумя противоречивыми и неразрешимыми началами внутри одного формального пространства. Отныне эта самая символическая глубина существует как будто бы параллельно в двух различных плоскостях; книга и фильм рассматриваются не в виде корня и стебля, а в виде делёзовской ризомы, исследующей объёмное пространство значения. Однако это не значит, что мы не можем сравнивать то, насколько хорошо эти плоскости могут существовать в различных идеологических пространствах (точнее насколько удачно они могут быть к ним адаптированы и в них интерпретированы) только лишь по причине того, что оба эти начала являются конфликтующими друг с другом. Более того, в определённые моменты во Времени одно начало симптоматически будет стремиться прорвать внешнюю символическую оболочку другого и наоборот…
Подходящим примером такому случаю можно как раз-таки назвать фильм «Американский психопат» 2000-го года и его книжный первоисточник. В своё время оба этих произведения сумели создать надёжную символическую структуру, никоим образом не завися друг от друга. И всё-таки нельзя не заметить при более тщательном подходе к изучению обоих этих произведений ту самую подрывную деятельность, ведущуюся в тылу одной из конфликтующий сторон, точнее то, как настойчиво сквозь символический экран пытается прорваться та самая метафизика, то самое «травматическое ядро», обозначенные в книге Эллиса.
Безусловно стоит отметить, что и в фильме есть удачные моменты, точнее более удачные, чем в самой книге. Так, например, на ум приходит культовая сцена, где перед совещанием Бейтман и его коллеги решают похвастаться собственными визитками. Безусловно комичный эпизод смакования и восхищения чем-то столь низменным и обыденным, как визитка, в фильме приобретает ещё большую глубину, когда мы видим, что сами открытки действительно оказываются практически идентичными, но вызывают при этом абсолютно такую же реакцию, как если бы они были «уникальными снежинками», абсолютным доказательством уникальности их владельца. Однако не стоит при этом позволять таким сценам одурачивать нас. Такие сцены вдоволь компенсируются (в негативную сторону) сценами, которых в книге нет, или которые были значительно изменены. Я уже упоминал ранее о вырезанной сцене встречи Бейтмана с его братом в ресторане, куда Бейтман страстно мечтал, но никак не мог попасть. К его собственному негодованию столик там заказывает столь ненавистный ему брат, у которого имеются связи. Ожидая Шона уже в ресторане, Бейтман отходит в туалет и произносит следующий монолог:
«Пока отливаю, смотрю на тонкую, похожую на паутинку трещину над писсуаром, и думаю, что если я вдруг исчезну в этой самой трещине — скажем, уменьшусь и провалюсь туда, то вполне может быть, что никто этого и не заметит… никто не заметит, что меня больше нет. Никто не заметит. Всем… будет… наплевать. А если моё отсутствие и заметят, то кое-кто наверняка вздохнёт с облегчением по этому поводу, с несказанным облегчением. Это правда: без некоторых людей жить станет легче. Жизни людей вовсе не связаны между собой. Никто ни с кем не пересекается. Эта теория устарела. Есть люди, которым просто незачем жить среди людей. К таким людям относится и мой братец Шон[14]…»[15]
И уже в таких моментах нам следовало бы насторожиться. Отсутствие таких сцен можно было бы принять за очередные уступки форме: невозможно снять фильм таким образом, чтобы один в один соответствовать книге. Это невозможно на уровне феноменологии и топологии. Однако удивительным образом именно такие небольшие сцены (их ритм, расположение в общей композиции) глобально влияют непосредственно на само восприятие социально-критического нарратива. Внезапно фокус смещается с неоднозначной фигуры Бейтмана, точнее сама неоднозначная фигура становится более расфокусированной. Страшно сказать, но при более надлежащем рассмотрении сама экранизация оказывается безусловным приспешником Капитала, так как уступает Ему, позволяет изменить нарратив, чётко разграничив персонажей на «угнетаемых» и «эксплуататоров», как бы изымая сам Капитал из фантазматической области восприятия, через отождествление с образами-символами стирая Его из онтологической области нашего собственного нарратива. Очередной пример. Так, одна из самых ключевых и важных сцен[16] всего романа, сцена безумной нежности и многогранности оказывается стёртой в фильме до состояния легкоусвояемой массы. В книге эпизод, в котором Бейтман решает пойти вместе с Джин, влюблённой в него секретаршей, на свидание оказывается тем самым переломным моментом, который образ Бейтмана, некое представление о нём медленно, но верно начинает осыпается, крошиться… Неожиданным образом в Бейтмане возникают странные вспышки-искорки человечности, которые мы поначалу попросту не можем осознать, настолько они неожиданны. Мы шокированы, мы пытаемся хоть как-то встроить их в общую картину и потому начинаем читать ещё более внимательно, более дотошно. Ещё не всё потеряно. Существует нечто, что способно повлиять на желающего казаться имморалистом Бейтмана. В фильме этот эпизод заканчивается абсолютно пошлой попыткой убийства Джин у Бейтмана на квартире, которую самым неподобающим образом портит звонок от невесты Патрика. Нет никакого нежного, едва ощутимого поцелуя на прощания от Джин, когда Бейтман провожает её до дома. Никаких «глупых» мыслей у Патрика в такси после прощания, как он «…с Джин прохладным весенним утром бежи[т] по Централ Парк, взявшись за руки и смеясь». И как после они покупают воздушные шарики и отпускают их в небо… Невероятной глубины онтологический разлом исчезает, представляя нам тот самый образ разжиревшего буржуа, который угнетает рабочих и прочих менее привилегированных особ из соображений чистого садизма, испытывая ужаснейшей природы jouis-sense. Этот аспект подмечает чуть ли не каждый кинокритик с левым уклоном (или желающим, чтобы его/её таковым/ой воспринимали), когда в очередной раз упоминаются консьюмеризм, отсылки на Бодрийяра с его Пустыней реального, объективизация Бейтманом женщин, его безнаказанность и т. д. и т. п. Неоспоримым должно являться то, насколько Бейтман как персонаж отвратителен зрителю, как каждым прыщиком нашего тела мы стремимся отстраниться от него, забыть, стереть из нашей памяти… Тем не менее, этого не происходит. Более того, мы обнаруживаем непосредственный парадокс в том, насколько сильно ручные леволиберальные кинокритики любят этот фильм, как если бы они были вынуждены его любить, несмотря на все вышеперечисленные причины. Проблема заключается в том, что сами попытки разрешить этот парадокс ставят классический марксистский подход анализа (и его приверженцев) в крайне неловкое положение. Так, например, многие указывают на то, что фильм был снят женщиной по сценарию, который адаптировала также женщина. В одном конкретном случае было даже замечено, что вместе со сценами, снятыми субъективным кадром от лица проституток в момент их совокупления с Бейтманом, это якобы указывает нам непосредственно на существование некого мифического «женского взгляда», в поле зрения которого Бейтман беспомощно смешон и жалок, выведен на чистую воду и обличён. Как если бы сама эта перспектива, точнее сама возможность создать площадку, на которой данная перспектива может быть представлена, способна самим своим существованием обличить всю жалкую натуру Бейтмана, указать на само «травматическое ядро», ту абсурдность, которые представляет из себя Капитал. При этом неизбежно возникает вопрос о целесообразности такого приёма. Он спорадичен по своей сути. Если бы идея заключалась в том, чтобы на контрасте перспектив обличить духовную пустоту и эскапистскую недальновидность Бейтмана, данные сцены должны были бы образовывать два параллельных равноправных фронта, которые бы встречались ровно по центру хронометража, когда фантазматический мир Бейтмана резко бы сменялся как раз-таки преодолением того самого экрана. Мы бы оказывались по ту сторону, откуда нам открывался совершенно другой, «истинный» вид. Они должны были бы иметь равноправное влияние на саму фактуру повествования. Вместо это у нас имеются безуспешные партизанские стычки с основным фронтом нарратива тут и там в виде пресловутого «женского взгляда» или оставленных под конец сцен, в которых Бейтман начинает сомневаться в своём здравомыслии. Такой субъективный взгляд выглядит скорее противоречием, которое вытекает непосредственно из попытки разрешить противоречие более высокого порядка. Иначе зачем вплетать в ткань фильма идею о том, что жертвы Бейтмана являются для него не более, чем вещами, лишёнными субъектности, если в самом фильме присутствует попытка убедить зрителя в обратном за счёт этих взглядов от первого лица? Зачем оставлять эти два конфликта неразрешёнными? При этом многие рецензенты неоднократно отмечали тот факт, что экранизация сделала книгу лучше, как бы дав слово другим его персонажам, избавившись также от невероятного количества абсолютно бесчеловечных сцен жестокости, которые шокировали только поначалу, а потом «наводили лишь скуку». Одним словом, частично избавившись именно от того, что составляло саму суть книги, фильм лишили того самого «травматического ядра», которое из эффекта превращалось в катарсис, своего рода состояние полного отчаяния и провала бунта Бейтмана против Злого Бога…
Но не будем же на этом так долго останавливаться. Обратим внимание на другую, более важную деталь. Значительно более мягкое воплощение на экране сцен тотальной бесчеловечности Бейтмана объясняют очень логично и просто. С одной стороны, это, безусловно, наскучивает. Иными словами, их чрезмерное количество лишает сцены жестокости непосредственного влияния, репрессируя до уровня неумелого пользования шок-эффектом. С другой стороны, это пытаются объяснить изменённым вторым эпизодом с Джин. В фильме эпизод изменили полностью, показав, как Джин обнаруживает рисунки Бейтмана, являющиеся прямым и наглядным порталом в его сознание. Рецензенты отмечают удачность такого хода не только в том, что это позволяет нам, убрав «ненужные» сцены жестокости, открыть этот самый портал, но и в том, что мы способны осознать весь тот ужас, те кровавое месиво и вакханалию именно за счёт того, что мы понимаем, чего именно мы сумели избежать. Здесь наступает ключевой момент. Вместо того, чтобы напрямую столкнуться с насилием, его самым уродливым проявлением, стать непосредственно лицом к лицу с «травматическим ядром», фильм упрощает эти неудобные моменты до удобоваримого состояния синей таблетки из «Матрицы». Мы проглатываем этот ужас, «справляемся» с ним, но мы не испытываем при этом никакого удовлетворения от преодоления. Это попытка приравнять прыжок с парашютом к случайному падению с кровати во сне; крайне конформистская позиция, которую, тем не менее, очень сложно скрыть, и которая симптомом проявляется в попытках напускных левых кинокритиков обозначить всю трагедию фильма. Неоднократно в своих рецензиях они указывают на то, что оставшиеся в фильме сцены насилия выглядят смешными и нелепыми. Как смешон преследующий своих жертв с бензопилой полностью нагой Бейтман в исполнении Кристиана Бейла! Якобы, это и есть заслуга того самого пресловутого «женского взгляда», который был бы невозможен, снимай этот фильм такие мастодонты и чуткие скульпторы кинонасилия как Бойл, Кроненберг или Скорсезе. Однако проблема заключается как раз-таки в том, что нет этого взгляда. Большую часть времени камера сосредоточена именно на Бейтмане, на его лице. Крайне редкие моменты «женского взгляда» не просто не объективизируют Патрика — в своём меньшинстве, отчаянном, обречённом на провал протесте они тем самым легитимируют его доминирование и превосходство (так как именно таким образом признают их), оставляя Бейла центральной фигурой всего кадра, лишая его объектности как таковой. Иными словами, то, что есть Бейтман в мифическом, «новом» Взгляде есть вульгаризированное ницшеанство, доведённое до тупости фашизма. (И не это ли мы видим, как результат, в современном культе Бейтмана как персонажа, который становится иконой токсичной «культуры» мужского превосходства, который неиронично воспринимается как та самая воля к власти, движущая миром?) Удивительным образом, абсолютно внезапно те самые левые критики, которые обвиняют Бейтмана в консьюмеризме и садизме, оказываются ничуть не меньшими палачами, получающими истинный jouis-sense от творящегося на экране макабра. Как в очередной раз они пытаются смеяться над допрашиваемым Бейтманом, как если бы они не знали, что он в любом случае избежит наказания. Очевидно — их смешит не сам факт шаткого положения Бейтмана (как субъекта), его изначальная зыбкость, хрупкость, ломкость претенциозного гештальта Капитала, но сама целостность и образ сцены, в которой нечто подобное вообще имеет возможность случиться (с богатым белым мужчиной). Их якобы левый Взгляд уже искажён, пропущен сквозь призму «нормальности» капиталистического реализма. Они довольствуются теми самыми мелкими крошками, которые Капитал им оставляет как бы за послушание, за то, что они игнорируют саму суть, происходящую за всем этим. За тем, что всего лишь является «представлением о Патрике Бейтмане».
В книге этот монолог очень чутко выведен практически в самом конце во время второго свидания с Джин, которую в фильме обесчеловечили до уровня очередного инструмента, сценарного хода, служащего именно для того, чтобы мы увидели те самые рисунки-фантазии и ужаснулись тому, что именно мы сумели избежать, даже не подозревая при этом, что нам следовало бы этого избегать… Монолог, который произносит Бейтман в конце романа является тем самым необходимым и невероятно сильным разрешением, которое наступает после катарсиса, вызванного непрекращающейся смесью из крови, абсурда, названий брендов и марок элитной бутилированной воды. В фильме, к глубокому сожалению, этот монолог произносится в абсолютно противоположном топологическом значении. Он не завершает, а открывает фильм. Оттого монолог служит не бомбой, которая разрывает нам мозг, а тем, что образует сам контекст, предупреждает его. Нам как бы говорят: «Сейчас вы увидите ужасы, зверство, насилие, кровь, но вам не нужно будет чувствовать никакой груз ответственности, не надо будет сопереживать жертвам Бейтмана и испытывать муки совести по отношению к ним. Расслабьтесь и получайте удовольствие, ведь это всё неправда». Вот тот самый монолог (его часть), сказанная в самом начале фильма (и в романе — ближе к концу):
«[С]уществует представление о Патрике Бейтмане, некая абстракция, но нет меня настоящего, только какая-то иллюзорная сущность, и, хотя я могу скрыть мой холодный взор, и мою руку можно пожать и даже ощутить хватку моей плоти, можно даже почувствовать, что ваш образ жизни, возможно, сопоставим с моим. Меня просто нет»[17].
А, если не существует самого Патрика Бейтмана, если это и есть то самое, с чем нас встречает фильм, то не будет существовать и всего того, что произойдёт далее в фильме. Неудивительно, что и его зверства, и он сам кажутся внезапно смешными (в наших глазах и) в глазах тех, кто считает себя проповедниками левой идеи настолько же либеральной, насколько казалась либеральной политика культурной революции Мао по сравнению с Большим террором Сталина. Не стоит задумываться над тем, что будет. Веселись и смейся. Именно это и делает Патрика смешным. Этого просто нет.
. . .
Сноски:
[1] Барт, Р. (2011). Camera lucida. Комментарий к фотографии / Ролан Барт; пер. с фр., послесл. и коммент. Михаила Рыклина. — М.: ООО «Ад Маргинем Пресс». — 272 с.: фот., стр. 27-28.
[2] Не потому ли мы чувствуем такую отчуждённость по отношению к современным фильмам (потому, что они больше не сняты на плёнку и сами по себе стали объектом, т. е. не только лишились своей тотемной функции, но и стали преимущественно достоянием стриминговых сервисов, лишившись оболочки, став чужой фантазией)?
[3] Барт, Р. Указ. соч., стр. 171.
[4] Здесь я испытываю неподдельный jouis-sense, отдавая себе отчёт в том, что первыми съёмочными камерами были так называемые камеры-обскура (с лат. camera obscura — «тёмная комната») — полноценного размера комнаты, в которых возможно было создать перевёрнутую проекцию окружения за счёт сделанного в одной из стен комнаты маленького отверстия, используя тот факт, что свет наделён также характеристиками волны. При этом сама проекция и служила источником света в комнате, позволяя самой себе существовать в темноте, всепоглощающей бездне. Невозможно здесь не провести параллель с тем, как мы сами «сознательно» запираем Реальное в чертогах Символического, наделяя Его характеристиками того перевёрнутого изображения, которое видно на стене ровно до тех пор, пока существует свет.
[5] Что интересно и сам Сизиф, точнее его труд парадоксальным образом являются своего рода попыткой избежать Смерти. Сизиф был проклят Богами после смерти за его попытку сбежать из преисподней. При этом, несмотря на неудачу Сизифа избежать смерти физической, он избегает смерти Символической, обращаясь к труду. Он не просто избегает наказания тем образом, что отказывается считать его таковым, он избегает заточения в Тартар, наиболее низкий уровень в царстве мёртвых в древнегреческой мифологии.
По мнению Камю, это и роднит труд Сизифа с искусством. Не только потому, что, как выражался Фромм, искусством является непосредственный, физический (т.е. не-символический) контакт с объектом труда, но и потому, что само искусство — это своего рода абсурдный труд. Безусловно, искусство не лишено «смысла» вообще, но оно начисто лишено каких-то хладнокровных логико-практических основ для того, чтобы отдаваться ему полностью. Развитие мелкой моторики, пластики тела; безосновательные посулы непременных славы и богатства. Всё это является не причиной, а, скорее, наоборот — следствием. Принцип творчества «абсурден» по мнению Камю как раз-таки потому, что его конечной целью является не достижения чего-то, завершения объекта творчества, испытание истинного наслаждения, а именно собственное торжественное самовоспроизведение, возвращение в начало, как главный смысл происходящегo[1].
Так же и в этом плане это роднит Сизифа с Бейтманом, истинной фантазией которого является видение некого творческого начала в его зверствах, как если бы это было неким утверждением, протестом, обладающим неким терапевтическим свойством. Творческого начала, в котором наиболее полно отображается его влечение к смерти, как стремление вновь начать цикл, избежав при этом физической смерти[2] и находясь в своей собственной версии ада, подобно тому же Сизифу. Сам Эллис недвусмысленно проводит параллели мира, в котором живет Бейтман, с адом (Данте). «Оставь надежду, всяк сюда входящий» первыми строками встречают читателя романа, оказываясь выведенными (причём «криво… кроваво-красными» буквами, как бы предвещая весь тот ужас, который нас ждёт) на стене одного из множества нью-йоркских банков на Уолл-стрит.
[6] Фромм, Э. (2020). Искусство любить / Эрих Фромм; [пер. с англ. А. В. Александровой]. — Москва: Издательство АСТ. — 221, [3] с. — (Эксклюзивная классика), стр. 107-108, курсив мой: «[э]гоизм и любовь к себе не только не идентичны, они на самом деле взаимно противоположны».
[7] Здесь фильм в очередной раз уступает роману в том плане, что он несколько жертвует этим символическим измерением ради комического эффекта: в фильме делается прямой акцент на том, насколько жалкими выглядят попытки самого Бейтмана сформулировать то, чего на самого деле нет (а именно — его труда), в надежде впечатлить очередную случайную девку.
[8] Progressive International. (2021, Февраль 14). Red Valentine’s: Love & Revolution [Video]. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=LtWq26Ag7DI&t=48m22s (дата обращения: 16.02.2025)
[9] Эллис Б. И. (2015). Американский психопат: роман / Брет Истон Эллис; пер. с англ. В. Ярцева, Т. Покидаевой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус. — 480 с. — (Иностранная литература. Современная классика), стр. 433, курсив мой.
[10] В случае с Набоковым, для которого потеря целой страны именно в символической плоскости, стирание самого образа Родины стало настоящей травмой, такие герои были непосредственной попыткой отрефлексировать своё собственное желание сбежать от реальности, переписать историю. Известно то, как Набоков искренне гордился тем, что за 15 лет жизни в Берлине, он не выучил ни одного слова на немецком и не завёл ни одного знакомства с немцем. При этом сам Набоков подсознательно осознавал тщетность такого «побега» от вечно преследовавшего его травматического ядра, того самого Взгляда, в который он сам не мог заглянуть. Эта тема также просматривается и в его романах: Машенька, как образ самой России, которая существовала только в фантазматическом мире самого Ганина, из одноимённого романа; бесконечные узоры и орнаменты шахматных ходов и навязчивая мысль о самой игре в «Защите Лужина»; травматический опыт «детской шалости», невинной плотской увлечённости-исследования рассказчика в «Лолите», юного Гумберта Гумберта, за которым последовало жестокое наказание в виде смерти его возлюбленной от тифа. Только Вторая Мировая война стала тем самым событием, которое пошатнуло набоковский символический экран. Вскоре после начала войны он эмигрировал в Америку, где создал себе новую личность, новый образ-фетиш, полностью отрёкся от русского языка, разговаривая с тех пор и сочиняя исключительно на английском.
[11] Этому наблюдению я благодарен Генри Бину. Bean, H. (2019, Март 10). SLAYGROUND : AMERICAN PSYCHO By Bret Easton Ellis (Vintage: $11, paper; 399 pp.) — Los Angeles Times. Los Angeles Times. URL: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1991-03-17-bk-622-story.html (дата обращения: 16.02.2025)
[12] Здесь стоит рассматривать стремление к этой схеме в виде той же инверсии, какую мы наблюдаем, например, в схемах садистского желания, янсенистского мироустройства или же хайдеггеровской трактовке Бытия. Стоит понимать, что Бейтман так отчаянно пытается спрятать трупы не потому, что он боится, пытается избежать наказания, а потому, что как раз-таки непосредственно верит в его неизбежность. Стремление избавиться от улик против себя Бейтман считает своего рода прямым следствием из этого — необходимостью, которая будет гарантировать неминуемость божественной кары.
[13] Поразительным при этом является то, что сам Бейтман признаёт тот факт, что голоса Оуэна и его собственный поразительно похожи, а на записи и вовсе их невозможно отличить. Именно в таких деталях и скрывается подтверждение тому, что и сам Бейтман — это та снежинка, которая похожа на миллионы остальных, чем он и пытается воспользоваться в надежде, что сумеет обмануть Судьбу.
[14] Подробнее о ненависти Бейтмана к самому себе см. раздел «От ненависти к самому себе один шаг» данной части эссе.
[15] Эллис Б. И. Указ. соч., стр. 266
[16] Более подробно см. раздел «Взгляд Другого» в «Американский психопат» Брета Истона Эллиса — Взгляд Зла на лице Другого. Часть 3».
[17] Эллис Б. И. Указ. соч., стр. 441
. . .
Комментарии к сноскам:
Сноска 5:
- [1] При этом, если мы продолжим мысль, то станет понятно, что точно так же, как камень предотвращает Символическую смерть Сизифа, так же искусство способно предотвратить Символическую (но не Реальную) смерть творца. Даже при условии, что его/её произведения останутся вовсе неизданными, сам факт наличия свидетельства творчества дарит его творцу столь же продолжительную жизнь, сколь долго существует камень у того же Сизифа. Именно в этом плане Камю считает творчество «абсурдным».
- [2] Это единственный признак, по которому Патрик отличается от Сизифа Камю, точнее являясь его своеобразной инверсией, которая пытается достигнуть несколько иных (фактически, но феноменологически абсолютно подобных) целей абсолютно теми же способами.
. . .
Подписывайтесь на телеграм-канал: https://t.me/art_think_danger
Подписывайтесь на инстаграм: https://www.instagram.com/hortusconclusus1587/
Подписывайтесь на Medium: https://medium.com/@hortusconclusus
Подписывайтесь на syg.ma: https://syg.ma/@hortusconclusus
