Хорхе Алеман. Лакан и капитализм
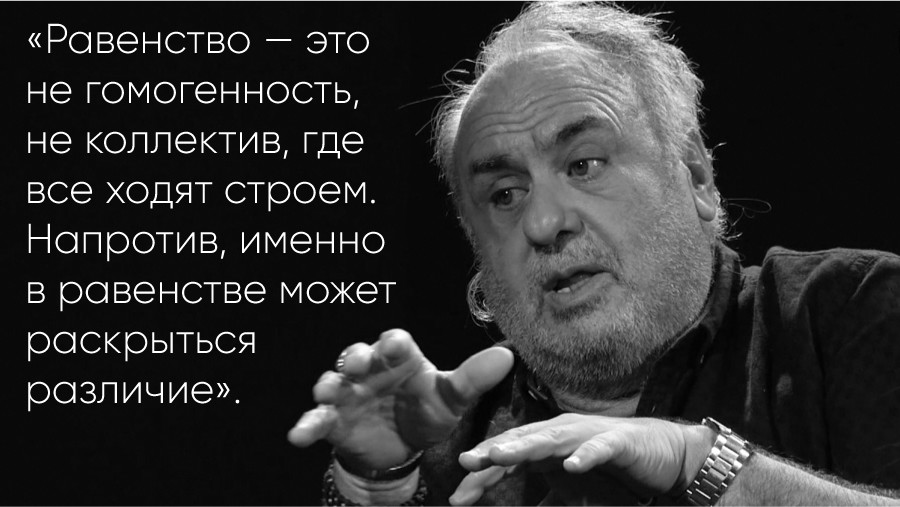

Горизонталь публикует один из важнейших текстов аргентинского психоаналитика Хорхе Алемана (р. 1951) — статью «Лакан и капитализм», в которой автор пытается дать определение возможного освободительного проекта исходя из логики лакановского психоанализа, демонстрируя, что само это направление мысли отнюдь не бессильно в политическом плане.
Текст основан на выступлении Хорхе Алемана на Психоаналитической конференции в Университете Гранады (Испания) в 2013 году. Оно было посвящено статье Х. Алемана «Одиночество:Общее» («Soledad:Común»), которая издавалась как отдельная книга. Переработанная ее версия («Об Освобождении»), наряду с настоящей работой, включена в сборник «Об освобождении. Психоанализ и политика», вышедший в свет в сентябре 2019 года в издательстве «Горизонталь»
Логика и положение субъекта в понятии «кризис»
Во-первых, мне кажется, все мы можем признать: то, что сегодня определяют словом «кризис» (я говорю об этом уже несколько лет), есть не кризис, но новая модель накопления капитала [1]. Итак, в ходу это неясное слово «кризис», всегда отсылающее к некоторой аномалии, после которой в определенный момент восстановится нормальное функционирование. Как будто речь идет о
Я же, напротив, хочу подчеркнуть — и касаюсь этого в одном месте своей книги — круговое движение, скрывающееся за понятием «кризис». Я же, напротив, думаю, что речь идет о чрезвычайном положении (в том смысле, какой вкладывает в него традиция, идущая от Карла Шмитта) капитала, при котором мы наблюдаем круговое движение, состоящее в том, что под предлогом ужасной чрезмерности (растрата денег, жизнь не по средствам и так далее) эту чрезмерность приходится сейчас компенсировать некой великой жертвой, экономией и попытками вновь вернуть «доверие» — которое, как следует, необходимо восстановить — некоего другого, который определяется общим словом «рынки». Очевидно, что эта жертва касается лишь так называемых угнетенных слоев, от которых требуется стать прекарными работниками.

Так совершается нечто вроде кругового движения, потому что доверие, восстановить которое необходимо, никогда не восстанавливается, а отречение, жертвы, режим экономии становятся все более значительными. Политика затягивания поясов и дальше приносит вред, она продолжается, с каждым разом все явственнее показывая, что в этом союзе финансовых властей и политиков общественные связи излишни. Так что это круговое движение описывается (под предлогом, что это не круговое движение) как кривая, которая рано или поздно вернется на свою прямую траекторию, то есть представляется кризисом. В то время как в действительности одна из инстанций — как бы она ни называлась: Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Тройка [2], синьор Драги [3] — каждый день сообщает, что лишений еще недостаточно, сокращение бюджета не доведено до конца, жертв и экономии все еще слишком мало. Что принесенные жертвы не соответствуют ожидаемым условиям возвращения доверия и отступления кризиса. Это круговое движение (я говорю «круговое», так как оно заключается в том, что бóльшие жертвы приводят к еще бóльшим требованиям; с одной стороны — усиление отказа, с другой — усиление накопления), без сомнения, требует для своего укрепления определенного положения субъекта; другими словами, такого, чтобы субъект, как только это возможно, удерживался в рамках данного кругового движения, идущего от накопления к отказу: капитал накапливается, субъект же отказывается и не понимает, почему его отказ никогда не останавливает процесс накопления. Такое положение субъекта возможно только в том случае, если различные гиперсвязанные друг с другом диспозитивы на огромной скорости расширяются во все стороны, раздвигая круговое движение и связывая все точки. Финансовые потоки, менеджеры духа, телесные техники, виртуальные валютные операции, сети инфопространства сами устремляются в бесконечное движение этой гиперсвязи, свойственной капиталистическому дискурсу. Так, едва ли возможно понять, что капиталистический дискурс в тенденции является «чрезвычайным положением» в той мере, в какой он является движением, «контрдискурсивным» диспозитивом, потому как он не подчиняется логике четырех дискурсов, представленных Лаканом. В 1972 году Лакан, «подвергнув форклюзии»[4] невозможность, то есть отказавшись от нее, продемонстрировал логику капиталистического дискурса (алгебру которого мы сейчас не приводим) — этого исключения из дискурсов господина, истерика, университета и аналитика. Из четырех дискурсов, которые роднит то, что они никогда не могут устранить невозможное, конституирующее их.
Капиталистический дискурс в тенденции является «чрезвычайным положением» в той мере, в какой он является движением, «контрдискурсивным» диспозитивом.

Этот сценарий, мне кажется, несложно признать, и именно так Лакан описывал капиталистический дискурс — как круговое движение, в котором постоянно протекают одновременные процессы накопления и отказа[5], при том, что накопление и отказ неразделимы, накладываются друг на друга и смешиваются друг с другом, ассимилируются до такой степени, что становятся невидимыми. Впрочем, именно так же Хайдеггер — и это одна из первых гомологий, которые я установил в ходе моей работы, — мыслил мир техники как круговое движение, которое постоянно побуждает всех нас совершать череду жертв, постепенно накапливающихся в другом месте — в месте, где техника реализует себя как воля к власти. Поэтому я всегда отличал в своих трудах технику науки и капиталистический дискурс от того, что традиционно называется дискурсом господина[6]. Наука всегда формально пересечена границей, задающей ее область. Дискурс господина тоже можно понять лишь как нечто, связанное с невозможностью.
Итак, вот первый сценарий, который нам интересно было бы продемонстрировать: под личиной кризиса предъявляется нечто, что в действительности является чрезвычайным положением (раньше, в классической парадигме, чрезвычайные положения были результатом военных переворотов; сейчас совершать переворот не обязательно); для него характерно установление взаимодействия между, с одной стороны, отказом и, с другой, накоплением; при этом данное круговое движение расширяется, разрастается и подталкивает само себя таким образом, что удовлетворить его невозможно: его требования безграничны. Сегодня требуется одно, завтра — другое, и каждый раз, когда требуемое отдается в надежде успокоить ненасытность этого места, воплощенного в гиперсвязанных рынках, рынок как будто говорит: «Нет, этого недостаточно. Надо отдать еще больше, вновь принести жертву, снова сократить и урезать расходы». Именно поэтому, несмотря на ожидания, что финансовый кризис приведет в конечном счете к установлению новых кейнсианских механизмов регулирования капитала, мы наблюдаем, напротив, то, что раньше называли новым накоплением капитала — и оно, вероятно, последнее, так как на этот раз в программе накопления присутствует новый предел: способ производства субъективности.

Было бы очень интересно обсудить все возможности, которые проистекают из гомологии между капиталистическим дискурсом и тем, что Хайдеггер называл техникой, но многие из вас могут уже увидеть, что внутри этого кругового движения (если мы вместе с тем говорим, что даже при крайней разновидности добровольного рабства необходимо наличие субъекта, который бы его поддерживал), в основе его, мы находим ту же матрицу, которую Фрейд в «Недовольстве культурой» обозначил термином суперэго. На самом деле, Фрейд был первым, кто установил и описал эту самую логику, при которой нам навязывается отказ, чтобы то, от чего мы отказываемся, накапливалось в другом месте. В этом великом тексте мы находим под именем суперэго неисполнимый приказ, наиболее специфическое, уникальное свойство которого заключается в том, что он обязывает нас отказываться от удовольствий именно потому, что данная инстанция наслаждается нашими жертвами. Суперэго — это структура, впервые введенная Фрейдом, которая заключается в накоплении удовольствия, подпитываемого тем самым удовольствием, от которого субъект отказывается. Отсюда структурное родство, установленное Фрейдом между суперэго и влечением к смерти. В конечном счете суперэго имитирует закон, который прикрывает ненасытные потребности влечения к смерти, закон, наслаждающийся отказом, которого он одновременно и требует.
Как я сказал, без сомнения, в этом есть что-то от капиталистического дискурса, определенного Лаканом много лет назад как круговое движение, и от находки Хайдеггера, который сказал, что чем сильнее все контролируется, тем более утрачивается контроль над вещами. Чем больше все планировать, тем больше будет возрастать хаос; чем тверже все гарантировать, тем больше будет неуверенности. Наконец, все эти круговые движения были прекрасно поняты мыслителями, которые отдавали себе отчет о последствиях наложения поля науки на поле капитализма. Можем сказать, что это наложение дало место, с одной стороны, капиталистическому дискурсу и, с другой стороны, технике. И в центр того, о чем каждый день нам говорят как о кризисе, мы можем поместить его фундаментальное свойство, то есть чрезвычайное положение. В настоящее время капиталистической системе свойственно локализовывать нас как нечто исключенное, потому что ей уже не нужны социальные контакты, ей не нужны более социальные связи. Она размывает и подрывает все социальные связи, и единственное, что реализуется — это само движение, в котором день ото дня оказывается, что отдано недостаточно; сокращение не может насытить неограниченную (ведь в любом круговом движении содержится нечто неограниченное) прожорливость логики капитала или логики техники. Эти движения ничем не лимитированы, а потому наибольшие трудности, с ними связанные, заключаются в осмыслении выхода из них.
В настоящее время капиталистической системе свойственно локализовывать нас как нечто исключенное, потому что ей уже не нужны социальные контакты, ей не нужны более социальные связи.
Как можно выйти из дискурса, который не имеет конца? Как выйти из дискурса, основным качеством которого является цикличность? Как можно произвести разрез в том, что удовлетворяется, требуя жертв от субъектов, в то время как субъекты не восстают и приносят эти жертвы, надеясь, что требующее успокоится при следующем пересчете?
Все это обязывает — и здесь я перехожу к следующему результату моих трудов за все эти годы — заново осмыслить политику, но не в понятиях чистой фикции или управления и консенсуса и не как подсистему реальности, а в свете того, как вновь (и это непростая задача) соединить ее с проектом освобождения. Однако здесь мы сразу сталкиваемся со сложным вопросом, так как это освобождение в любом случае имеет контингентную природу и не гарантировано никаким историческим законом.

Осмысление освободительного проекта
Один
Следуя этой логике кругового движения, мы откроем, что вовлечены в него как субъекты, потому что традиционная семантика — форма осмысления — освобождения состоит в том, что есть внешняя сила, которая нас подчиняет, подавляет и закабаляет, и как только эта внешняя сила будет устранена, субъект обретет свое освобождение или полную реализацию; но оказывается, что все не так. Получается же (и поэтому я сразу ввел это понятие кругового движения), что сам субъект вовлечен в данное круговое движение, и дело не в подавляющей его внешней силе, но в том, что сам он является механизмом, в котором реализуется, с одной стороны, накопление, а с другой — жертва. Таким образом, ему оказывается крайне сложно представить себе новое место, которое он мог бы занять, чтобы выбраться и найти какой-то выход из этого кругового движения. Возможно, такова одна из великих политических дилемм нашего времени, если следовать этой логике, которую (настолько просто, насколько могу) я здесь излагаю: как можно выйти из этого кругового движения, если сам субъект не знает, каким образом он в него помещен? И, кроме того, как выйти из этого кругового движения, если сам субъект мечтает о том, чтобы оно возобновлялось у самого своего предела?

Как сказал мне однажды за ужином один друг: «Нас всех не отправят на бойню; в определенный момент Германия все остановит». На что я ответил ему, что, обратившись к современной истории Германии, вряд ли можно всерьез надеяться на то, что она знает, где остановиться. Совсем наоборот: с точки зрения разума она знает, где нажать на тормоз, но еще и хочет реализовать свою волю. Я не вполне уверен, что в годы Второй мировой войны Германия желала победить; я не верю, что она уничтожила шесть миллионов евреев в Холокосте, чтобы выиграть в войне. Думаю, она воплощала в жизнь вещи иного характера. Так что ожидать появления некой разумности, которая положит предел тому, что каждый день требует нового сокращения бюджета, новой жертвы, — значит не понимать в достаточной мере логику, в которую все мы в настоящий момент вписаны. И это притом, что, как я сказал ранее, субъект сам вовлечен в эту логику, он ждет, что в определенный момент возникнет некая разумность. «Разумности» от нее ожидают потому, что традиционно то, что мы именуем «разумом», понималось в логике предела. На самом деле капиталистический дискурс представляет собой абсолютную рациональность, каковой является и техника у Хайдеггера. Последний даже считал технику истинным высвобождением разума в его исторической кульминации. Капиталистический дискурс есть новый тип парадоксальной рациональности, основанной на исключении неограниченного.
Например, те друзья говорили мне, что в некоторый момент сам экономический истеблишмент поймет, что если так пойдет и дальше, то все запылает или социальная сфера окажется разрушена настолько, что в мире снова станет невозможно жить. Все это призывы к тому, чтобы каким-то образом в этом круговом движении и ненасытной (по выражению Лакана) прожорливости суперэго возникли некоторый порядок и рациональность, которые вновь стали бы регулировать, умиротворять, устанавливать логику и вводить рациональные условия. Мы, в принципе, не имеем никаких исторических доказательств того, что все работает именно так. Однако мы знаем, что впервые в этом наложении капитала и техники высвободилось (в данном случае в Европе, ведь в других частях света прежде уже проводились подобные эксперименты) движение, которое не нуждается в социальных связях и которому достаточно реализовывать свою собственную акефальную, чрезвычайную (вновь подчеркиваю чрезвычайное положение) волю своей цикличности.
Два

Наряду с этим мы видим, что на уровне субъективности (того, чему уже предшествовало подобие зомби-эпидемии, которая в значительной степени задает то, чтó мы видим посредством образов) все большее значение начинают приобретать те, кто пережил собственную смерть, будь то в форме зомби или вампира. Но все это поддерживается нейробиологической парадигмой, которая постоянно пытается отделить субъекта от его собственного опыта, как если бы он был не более чем жертвой ужасного шока, перед лицом которого ему нечего ни сказать, ни поведать; это то, что Вальтер Беньямин в своем великом тексте некогда назвал «скудостью опыта»[7]. Возможно, поэтому такой философ как Агамбен сконцентрировал свое внимание на фигуре «мусульманина», как в концентрационных лагерях называли переживших собственную смерть и оставшихся в живых без признаков жизни[8]. Как если бы речь шла о нейробиологии: некто, скажем, был бы поражен ужасным шоком, произведшим огромный травматический ущерб, но не мог, однако, рассказать об этом какую-либо историю.
Круговое движение, о котором я говорил вначале, неверно определяемое как кризис и скрывающее чрезвычайное положение, есть способ фальсифицирования политики. На улицах можно услышать: «[Экономика] падает»; такие фразы приравнивают ее к природному явлению, как будто речь идет о снеге. Здесь нет ничего общего с природой. Это операция, которая входит в саму структуру политической экономии и управляется в настоящее время как чрезвычайное положение, реализуемое путем этого кругового движения, при котором необходимо отказываться и накапливать.
На улицах можно услышать: «[Экономика] падает»; такие фразы приравнивают ее к природному явлению, как будто речь идет о снеге. Здесь нет ничего общего с природой.
Этот вопрос о шоке напоминает мрачную шутку: «У меня для вас очень плохие новости. У вас болезнь Альцгеймера. Но хорошая новость в том, что вы забудете об этом, как только вернетесь домой». У субъекта — и это второй способ фальсифицирования политики — уже нет никакой истории. На самом деле, наблюдаемые нами самоубийства происходят не только
В конечном счете таков еще один аспект, свидетельствующий об отмене политики. Этой отмене служит появление различных процедур, которые вмешиваются в способ производства субъективности: книги по саморазвитию, «коучи», консультанты, «персональные тренеры» и так далее. В этом исторически важном воззвании капитализм защищает свой последний шаг — покорение субъекта с помощью способов производства субъективности. Как вы можете заметить, различие между субъективностью, произведенной капиталом, и конституцией субъекта, произведенной языком, огромно. Во многих случаях они подвержены методологическому смешению.
И три
Это демонстрирует еще один аспект, — я работаю с ним в тексте «Лаканианская левая»[10], — метаморфоза того, как устроена бедность. Раньше бедность определенно обладала знаком «минус» в том смысле, что она была пересечена тем, чего ей не хватало, а сегодня у бедности знак «плюс», это превышение наслаждения. Например, если зайти в

Политическая проблема и проблема освобождения
a. Прибегнем к постмодерну
Для меня три эти аспекта означают возвращение проблем политики и освобождения через постмодерн. Я не буду распространяться, но, что касается постмодернизма, я считаю, что это было весьма характерное для эпохи государства всеобщего благосостояния и времени после падения Берлинской стены философское движение, достигшее своего пика в Европе, и логично, что оно повлияло на Соединенные Штаты и Латинскую Америку. Я не собираюсь останавливаться на мыслителях, которые определяются как постмодернистские, но истина в том, что в их доксе хватало находок, благодаря которым удалось поставить правомерную проблему: конец больших нарративов, конец идеологии, конец политики и защита единичности, того несократимого, что имеется в каждом субъекте. Защита мысли о том, что у каждого субъекта есть свой нарратив, что каждый субъект имеет право изобрести нарратив, который будет поддерживать его жизнь и так далее. В эпоху постмодерна вернулись тексты экзистенциалистов: постмодерн вновь стал читать Хайдеггера, Фрейда. Большое внимание уделялось идее единичности, субъекта, которого невозможно коллективизировать, ведь коллективное якобы всегда ведет к худшему; субъекта, который не может примириться с тоталитаризмом, так как он несет клеймо абсолютной уникальности, то есть того, что есть в каждом из нас несопоставимого, единичного и так далее. Все это я намеренно говорю таким образом, чтобы все вы увидели, что отдельные утверждения постмодернизма могут совпадать с формулировками самого Лакана насчет субъекта.
Но все же я думаю, что в рамках постмодернизма — я утверждаю так в моих книгах об этом течении[12] — имеется некоторое разделение в отношении политики. Другими словами, полагаю, было очень удобно говорить все это и защищать неадаптивный характер психоанализа в мире, к которому можно было адаптироваться. При классическом дискурсе господина именно возможность вписаться в символические рамки, которые функционировали бы неким образом несмотря на симптомы, позволяла данному дискурсу действовать в качестве чего-то равного тому, что Фрейд определил как принцип реальности. Но сейчас к миру адаптироваться невозможно, и положение дел меняется. Для того, чтобы появился мир, к которому можно было бы адаптироваться, необходимо, чтобы дискурс господина обладал некоторой устойчивостью, то есть чтобы появились некоторые константы. Чтобы человек мог адаптироваться к определенному миру, у него должны иметься соглашения, расписания, родословные, семьи, приходящие вовремя поезда, долговременные контракты, личные вещи. В 70-е годы шел такой спор: может ли психоанализ быть способом адаптации субъектов к дисциплинарным режимам — и в данном направлении разворачивалась дискуссия между Делёзом и Фуко. Но мы переживаем другой момент, в котором это круговое движение и его чрезвычайное положение не дают господину функционировать как раньше, ведь ничто не вечно; мы живем в эпоху, когда уходят в прошлое политический класс, королевский дом, короли, монархии, герцогини[13]. И не остается практически ничего, что не попадало бы под блестящее прозрение Маркса, сказавшего: «все сословное и застойное исчезает». «Все сословное и застойное исчезает» — но не благодаря протестам, не благодаря Маю 1968-го, не благодаря ребяческому бунту, а вследствие неумолимого движения товарной формы и логики капитала, а также установления чрезвычайного положения, не признающего никакого предела. А если и признающего, то лишь сегодня, однако мы знаем, что очень скоро оно вновь от этого откажется, потому что единственное, что оно пытается воплотить в жизнь, — собственное бесцельное и неограниченное воспроизводство.
«Все сословное и застойное исчезает» — но не благодаря протестам, не благодаря Маю 1968-го, не благодаря ребяческому бунту, а вследствие неумолимого движения товарной формы и логики капитала, а также установления чрезвычайного положения, не признающего никакого предела.
Поэтому, как я сказал ранее, постмодерн был, скажем так, моментом отвлечения. Моментом, когда различие имело огромное значение; прежде всего я имею в виду Рорти: ирония, нарратив без основы. Все вы без труда припомните, каким огромным авторитетом пользовался тезис — впрочем, неверно понятый — о конце Истории в версии не Кожева, а Фукуямы, каким авторитетом пользовался тезис Лиотара о конце больших нарративов, и так далее. В конце концов, все это мы, конечно, можем оспорить, однако мне кажется, что сейчас из данного дискурса невозможно извлечь ничего полезного и, честно говоря, пришла пора заново осмыслить то, что относится к политике и освобождению.
b. Обратимся к Марксу и классическому марксизму
Итак, осмысление политики и освобождения сталкивается с рядом проблем. Как я сказал вначале, мы не можем и дальше мыслить освобождение так, как делали это всегда — как избавление от подавляющей нас внешней силы, которое позволит нам получить доступ к собственной реализации. Не можем мы его мыслить и так, как делал это я в 70-е, в годы моей молодости, отмеченной марксизмом. Все мы считали, что освобождение есть процесс, который произойдет неминуемо (хоть вам это и может показаться невероятным, но мы думали именно так), что История неизбежно (подчеркиваю, что слово «неизбежно» относилось к конечной точке; по пути можно было задерживаться, медлить…) реализует свое собственное освобождение посредством исторического субъекта, у которого есть прерогатива контролировать этот революционный процесс, то есть пролетариата. История должна была объективно и неизбежно реализовать революционный процесс, поддержанный историческим субъектом — пролетариатом. Пролетарий был не только главным действующим лицом проекта, но и был способен — на своем пути от «в себе» к «для себя» — анализировать и контролировать процесс вплоть до достижения всеобщей цели, коммунизма.
Маркс не был наивен. Простая вписанность пролетариата в производительный аппарат еще не давала ему права на такую историческую судьбу, он должен был совершить своего рода переход от бытия «класса в себе» к бытию «класса для себя» (своего рода гегельянское наследие тех лет). Спор о том, каким именно образом «пролетариат», «рабочий класс» или «рабочие» — согласно различным соперничавшим тогда терминологиям — переходят от «класса в себе» к «классу для себя», имел основополагающий характер, в нем участвовали и троцкист, и маоист, и член официальной компартии, ведь здесь коренился вопрос: как происходит переход от класса, который работает, труд которого эксплуатируется в товарной форме, к субъекту истории. Этот узел требовал связи между теорией и практикой. Кстати, меня всегда воодушевляла автобиография Троцкого, сейчас я снова ее перечитываю. В свою первую встречу с Лениным Троцкий рассказывает ему обо всем, что предшествовало Октябрьской революции, и Ленин его спрашивает: «А как обстояло дело по части теории?»
Итак, огромное значение имело то, как происходит переход от бытия «в себе» к бытию «для себя». Конечно, имелась гарантия: у революции имелся «субъект предположительно знающий», им был пролетариат. Как сказал бы Рансьер, имелась часть общества, которая была исключена и в определенный момент должна была представить универсум именно в силу своей исключенности, она должна была представить все человечество в целом. Часть общества, которая находилась за рамками учета населения, за рамками политики, которую Рансьер называет «полицией», становится воплощением универсальности. Кроме того, этот класс способен самораспуститься, потому что идея состояла в том, что пролетариат, достигнув момента революции, перестанет быть пролетариатом, так как через этот исторический субъект реализует себя все человечество. Цель коммунизма — не вечная диктатура пролетариата, а уничтожение социальных классов. Для этого требовалось значительное развитие производственных отношений, на практике выходящих за рамки капитализма на высшей ступени развития, отчего самому Ленину пришлось объяснять, почему революция свершилась в такой стране как Россия, где к ней не было никаких предпосылок. Если не было предпосылок, в чем состояла научность теории о противоречиях между производственными отношениями и развитием производительных сил?
Итак, первая проблема, которую я вам представляю и которая введет нас в лаканианскую левую: противоречия сами по себе ничего не преобразуют.
c. Посмотрим слева, опираясь на Лакана
Как я сказал, противоречия ничего не преобразуют. Другими словами, это описанное мной круговое движение, где, с одной стороны, есть накопление, а с другой — отказ, не решить в рамках логики противоречий, которая является, скажем так, гегельянским наследием в марксизме. По крайней мере, в смысле канонического гегельянства, которое дало толчок развитию традиционного марксизма, а не Гегеля, лаканизированного Жижеком, который хочет видеть в нем лаканианца avant la lettre[14], основателя истинного диалектического материализма реального. Это позволяет нам задаться вопросом, возможно ли существование антагонизмов. Они должны существовать, ведь эпоха постмодерна, среди прочего, была временем отказа от политики, так как она скрывала и маскировала общественные противоречия. Однако эти общественные противоречия (в отличие от того, как считали молодые мы в 70-е годы, за что многие, особенно в Латинской Америке, заплатили высокую цену и отдали свои жизни) контингентны, не обязательны. В то время как теория Маркса указывала на субъекта, который неизбежно должен был осуществить освободительный проект, и этот субъект именовался пролетариатом, он был предрасположен к свершению революции, так как был отчужден и лишен — путем превращения его рабочей силы в товар — своего собственного и истинного труда… Итак, теперь мы должны понимать, что сам рабочий это осознает, но ничего не происходит. Недостаточно того, что его эксплуатируют: помимо этого, нужно, чтобы он сделал шаг в сторону решения, показав тем самым, что не хочет, чтобы его и дальше эксплуатировали. Этот шаг в сторону решения не был предусмотрен в диалектическом движении противоречий.
И это второй вопрос, который, думаю, может поставить теория, подобная лакановской: как совершается этот переход к решению, когда он уже не гарантирован телеологическим (то есть имеющим априорно намеченную цель) процессом, как считалось в классическом марксизме? Как принимаются решения? Политические решения — как любые решения жизни — принимают не после того, как все данные, все, что введено в игру, выкладывают на стол и тщательно анализируют. Нет, нет. Решения контингентны, они не застают нас врасплох, мы не хозяева решения — оно само господствует над нами (и, следовательно, проблема решения крайне захватывает). Решение, по выражению Деррида, «нерешаемо». Вот самая ироничная часть этой мысли: то, что в решении по-настоящему важно, мы решить не можем. «Оно само себя решает» — так мы можем предварительно заключить.
Итак, первая проблема, которую я вам представляю и которая введет нас в лаканианскую левую: противоречия сами по себе ничего не преобразуют.
Так когда следует принимать решения, если уже нет априорного положения о наличии субъекта освобождения? Получается, что освобождение перестает быть чем-то обязательным, у него нет причин произойти. Нет никакой гарантии, что в один день мы вырвемся из кругового движения, и именно поэтому, как показал Джеймисон, конец света помыслить проще, нежели конец капитализма: нет никакой гарантии выхода из последнего. Прежде мы могли бы думать, что реальность преобразуют сами противоречия, но — и в этом проблема — противоречия не преобразуют реальность и не тормозят накопление страданий (как и не снижают количество самоубийств). Другими словами, нужно, чтобы появился субъект. И этот субъект следует изобрести, он не гарантирован никаким мнимым знанием, которое утверждало бы: «Этому субъекту суждено совершить революцию». Кроме того, учитывая, что мы живем в эпоху постфордизма, когда невозможно обозначить некий единый пролетариат, речь сегодня могла бы идти о различных группах исключенных. Следовало бы осмыслить логику, в рамках которой антагонизм будет принят всеми постоянно появляющимися исключенными. А их много и будет еще больше. Эти соображения имеют смысл лишь потому, что на самом деле имеется антагонизм, брешь в структуре, реальное, которое смещает символическое, учреждает социальное и которое капиталистический дискурс скрывает и пытается стереть или вытеснить за рамки своего кругового движения. Этот антагонизм не обеспечен исторически законом классовой борьбы, его следует сконструировать в его контингентной модальности, чтобы возникла новая версия того, что мы называли классовой борьбой. Иначе говоря, этот антагонизм займет то же место, что прежде занимала эта так называемая классовая борьба, но для осуществления деиерархизирующего и эгалитарного вторжения он требует конструирования-изобретения.

С этих позиций я стараюсь осмыслить логику освобождения, и из нее вытекает концепция Одиночества:Общего, о которой скажу несколько слов.
Одиночество: Общее
Я не говорю об «одиночестве», к примеру, в патологическом или патетическом смысле: в том смысле, согласно которому сегодня мы одиноки, живем в интернете, не коммуницируем и так далее. Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что моя коллега[15] упомянула в выступлении: психоанализ, несомненно, всегда приносил дурные вести освободительному проекту Просвещения; как Фрейд, так и Лакан всегда приносили дурные вести.
Одна из этих дурных вестей состоит в том, что одиночество субъекта несократимо, и мы в принципе не можем сделать его коллективным. Вторая — в том, что невозможно излечиться от влечения к смерти. Третья: революция есть возврат в то же место. Другими словами, Фрейд и Лакан заселяли мир дурных вестей каждый раз, как заговаривали о революциях, а философы тем временем пытались игнорировать дурные вести психоанализа и приспосабливать Фрейда к нуждам освобождения. Таким приспосабливанием был фрейдомарксизм, им же в более изощренной форме стал «Анти-Эдип» Делёза, им же была фукианская герменевтика «заботы о себе», им же является до сих пор проект Негри; суть их в том, чтобы попытаться помешать дурным вестям психоанализа сходу разрушить надежду на освобождение.
Мы, напротив, стараемся поддержать все дурные вести, которые несет психоанализ, коих в отношении идеи коллективного проекта множество, и в то же время — и здесь коренится проблема Одиночества:Общего — пытаемся связать это несократимое одиночество с некоторым опытом Общего, потому что нас не устраивает то, что временами мы наблюдаем среди лаканианцев: просвещенный скептицизм в вопросах политики; вечные напоминания о нашем постоянном одиночестве; указания на перманентность нашего пребывания в симптоматическом одиночестве и так далее. В конечном счете я здесь имею в виду различные стратегии, которые лаканианцы используют, чтобы не касаться проблемы политики и ее ключевого вопроса — Общего. Думаю, все это было неплохо в организованном мире, но, поскольку капитализм более в нем не нуждается, все то, что мы, лаканианцы, говорили, было актуально для эпохи, которая функционировала по образцу классического господина. Значит, да, в нынешнем мире я могу сказать: мы занимаемся субъектом в силу его отличия от остальных, или мы занимаемся им в связи с его единичностью, или в связи его с влечением к смерти, или в связи с его фантазмом или его синтомом (в конце концов, в связи со всем, с чем угодно). Но думаю, что наступил момент, когда психоанализ может сказать что-то новое всем мыслителям, которые пытаются создать не метафизический освободительный проект, не заблуждающийся относительно субъекта: пришла пора осмыслить освобождение, принимая во внимание человеческую природу.
До настоящего времени освободительные проекты подавляли человеческую природу, но что если попытаться осмыслить освобождение, принимая ее? Признав, например, несократимое одиночество каждого субъекта, но с тем, чтобы обнаружить некую грань соприкосновения, связь или шарнир между ним и опытом Общего. В выражении «Одиночество: Общее» следует видеть парадокс, конъюнкцию и дизъюнкцию, которые представлены в обоих этих пунктах. Если говорящее, как заявляет Лакан в Семинаре XX, всегда имеет отношение к «Одиночеству», то одновременно это то самое одиночество, которое мы имеем в Общем независимо от проектов идентичностей, сливающихся в массу. На самом деле, скажу вам (доказательство этого займет намного больше времени), Общее не принадлежит психоаналитической традиции, но в последнее время я взялся показать, что Общее — это не обязательно гомогенное. Я обращаю на это внимание прежде всего потому, что мои коллеги склонны, когда я использую слово «общее», отвечать: «Нет, нет. Психоанализ имеет дело с субъектом в его несократимом отличии», однако в Общем, о котором я говорю, различие может раскрыться как таковое; нас не интересует различие, задаваемое рынком: различие, заключенное в том, что один не смог пойти в буржуазный колледж, второй родился в
Это один из моих тезисов. Равенство — это не гомогенность, не коллектив, где все ходят строем. Напротив, именно в равенстве может раскрыться различие. Различия, раскрывающиеся вне равенства, суть — прибегая к хайдеггерианской терминологии — онтические, но не онтологические; это различия, которые порождают индивидуализм каждого в отдельности.
Равенство — это не гомогенность, не коллектив, где все ходят строем. Напротив, именно в равенстве может раскрыться различие.
Истинное различие требует равенства, и наоборот. Поэтому равенство — это важно — нельзя построить в логике «для всех». Равенство не есть «одно для всех». Поэтому мы также позволяем себе связать то, чем является равенство, с тем, что Лакан называл «не-всё»; объяснение этого здесь и сейчас заняло бы чересчур много времени, но я скажу, что бесконечное и не допускающее исключений не-всё мне кажется полем, наиболее подходящим для осмысления логики равенства.
Вместе с тем эта освободительная логика благодаря Лакану может быть осмыслена уже не как реализация некой целостной тотальности или счастья, которое все мы обретем одновременно (здесь я согласен с Беньямином: нет другого счастья кроме случайного припоминания голосов прошлого, не обремененного ностальгией), ведь речь не идет об освобождении, в котором мы реализуем тотальность, так как общества как тотальности не существует. Нет тотального общества, контингентные антагонизмы мешают ему замкнуться в тотальность. Это важный вопрос, который можно осмыслить, опираясь на Лакана: как субъект расщеплен и не может быть объединен, так и общество не является тотальностью.

Проблема эта стояла и перед классическим марксизмом. Альтюссер, обладавший колоссальной интеллектуальной смелостью, посвятил этой проблеме статью «Фрейд и Лакан»[17] (вспомним также, что здесь, в Гранаде, живет известный альтюссерианец Хуан Карлос Родригес[18]). Альтюссер очень хорошо понял, что на вопрос, почему революция свершилась в России, невозможно ответить, пользуясь лишь логикой противоречий; в конце концов, должна иметься некая сверхдетерминация. Оказывается, что экономического базиса недостаточно, должна иметься сверхдетерминация, которая заключается не только в экономическом базисе. Однако и эта альтюссеровская «сверхдетерминация в конечной инстанции» является основой для все той же концепции тотальности, тогда как идея Фрейда о сверхдетерминации интереснее. Как он показывает, в механизме работы сновидений нет никакой тотальности: сгущение и замещение демонстрируют, что отношения с остатком и Единым (то, что человек видит во сне, о чем он повествует) невозможно тотализировать. Как и общество. Общество нетотализируемо.
Что касается освобождения, мы никогда не окажемся в обществе, свободном от влечения к смерти, сумасшедших, тревожных, желающих сменить природу своей сексуации, гендерной сущности. Совершенно наоборот. Равенство будет возможно, если каждый сможет обладать собственной единичностью, поэтому необходимо переформулировать весь горизонт того, что до настоящего времени называется научным или реальным социализмом. Я отстраняюсь в своих рассуждениях об Общем также и от того, как Негри теоретизирует это общее в традиции Делёза. Негри теоретизирует его с точки зрения когнитивных сетей как то, что является общим между нами, опираясь на Маркса: это «всеобщий интеллект». Другими словами, социальные сети для него имеют познавательную ценность с точки зрения общего. Это не наша позиция.
Где же Общее у Лакана? Когда молчат эксперты университетского дискурса, это и есть Общее. Я определяю Общее как то, о чем не может говорить ни один эксперт, как ни один эксперт не может говорить о том, чем же является наша связь с языком. Иначе говоря, никто не может вести речь о том, как мы управляемся с тремя «отсутствиями», о которых говорит Лакан: отсутствием сексуальной связи, отсутствием Другого у Другого, отсутствием метаязыка. Здесь экспертам сказать нечего. Прежде чем поступить в хорошие или плохие колледжи, прежде чем одни начнут приказывать, а другие — подчиняться, каждый лепечет массу слов и этим вооружает симптоматическое одиночество и свою связь с Общим. Йазык, говоря терминами Лакана, есть место рождения (suelo natal), где сексуированное, говорящее и смертное существо появляется до (и это логическое предшествование) всех способов производства субъективности, которые пытаются его пленить и колонизировать с помощью различных диспозитивов. Если бы производство идентичности с нынешней силой его неолиберальной мутации происходило прежде йазыка, преступление было бы идеальным. Это одна из причин, по которым политическое сегодня оказывается загрязнено тем, что мы определяем как «внеполитическое» (ultrapolítico). Как мы подчеркнули, понятное нам в политическом не попадает в ловушку отношений детерминации между надстройкой и базисом. Сегодня речь идет о противостоянии новым факторам, производным от наслаждения, извлекаемого из влечения к смерти: ненависти, разрушению другого через разрушение себя самого, сведению другого к недоразвитому наслаждению, сегрегации и так далее. Товарный цикл не смог присвоить этого к настоящему времени и не смог потому, что здесь он не может опереться ни на одного эксперта.
Недавно, например, я слушал эксперта-психолога, работающего консультантом на бирже (члена, скажем так, победоносной армии зомби), что было большим событием для предпринимателей с развитым полушарием — не помню, то ли левым, то ли правым. Он широко улыбался и говорил, опираясь на идею, что одно полушарие тупое, а другое — креативное, что перед теми, у кого развито нужное полушарие, открыты огромные возможности. Есть те, кто хочет найти работу, им дают место и признают их, а есть те, у кого развито креативное полушарие, они умеют создавать себя, и так далее. И он утверждал, что настал великий момент для обладателей какого-то из полушарий, не помню, какого именно. Из его выступления можно было понять, что надо обследовать все население, чтобы узнать, у кого какое полушарие развито, и удалить тех, у кого развито неправильное. В конце концов, это тоже часть отмены политики, осуществляемой в данный момент.
Что касается освобождения, мы никогда не окажемся в обществе, свободном от влечения к смерти, сумасшедших, тревожных, желающих сменить природу своей сексуации, гендерной сущности. Совершенно наоборот. Равенство будет возможно, если каждый сможет обладать собственной единичностью, поэтому необходимо переформулировать весь горизонт того, что до настоящего времени называется научным или реальным социализмом.
Все это открывает дискуссию. И я возвращаюсь к Ленину. Он говорил, что философия — часть классовой борьбы; иначе говоря, теория подчиняется событиям, а не наоборот (речь о том, что нельзя априорно объяснить события). Сейчас мы общаемся с друзьями из 15‑М[19], с новыми социальными движениями, потому что мысль находится там (не
В лаканианской оптике Общее может быть осмыслено, если мы будем понимать его не иерархически, но способом, недоступным для экспертов. Это общее я, ссылаясь на силлогизм Лакана, называю йазыком, что отличается от понимания общего у Негри и других мыслителей, принадлежащих к делёзовской традиции.
Если то, что есть у нас общего, это йазык, а не наши идентичности, общее одиночество может вторгнуться в своем учреждающем и деиерархизирующем акте, как эгалитарный момент коллективного, который нельзя свести к психологии масс.
Больше ни слова.
Большое спасибо за внимание.

Книга Хорхе Алемана «Об освобождении. Психоанализ и политика» продается в книжных, указанных на нашем сайте. Заказать ее с доставкой по России можно на OZON, в «Подписных изданиях», «Порядке слов» и других магазинах. Кроме того, ее можно прочитать на платформе Bookmate.
Подписывайтесь на наши соцсети: VK, Instagram, Facebook, YouTube.
Примечания
[1] Alemán J. Soledad: Común. Políticas en Lacan. Madrid: Clave Intelectual, 2012. P. 35.
[2] Тройка (Troika) — общепринятое неофициальное наименование трех организаций (Европейская комиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд), которые занимаются распределением средств между странами Евросоюза. — Прим. пер.
[3] Марио Драги — президент Европейского центрального банка с 2011 по 2019 гг. — Прим. пер.
[4] Исп. forcluir от фр. forclusion. Понятие «форклюзия», изначально имеющее юридический смысл и описывающее выморочное имущество, в лакановском категориальном аппарате появилось сначала как перевод фрейдовского Verwerfung («отбрасывание»). Позднее Ж. Лакан начинает понимать под форклюзией механизм исключения фаллического означающего, приводящий к неудаче первичного вытеснения и свойственный для психотика. — Прим. пер.
[5] Lacan J. Del discurso psicoanalítico. Conferencia de Milán del 12 de mayo de 1972. // Lacan en Italia. Milan: Editorial Salamandra, 1978.
[6] Alemán J. La metamorfosis de la ciencia en técnica: el discurso capitalista. / Para una izquierda lacaniana… Buenos Aires: Grama Ediciones, 2009. P. 47-55.
[7] Беньямин В. Опыт и скудость. // Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 263-267.
[8] Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М.: Европа, 2012.
[9] Freud S. El yo y el ello. Madrid: Biblioteca Nueva, 1973. P. 2724 [рус. пер.: Фрейд З. «Я» и «Оно»].
[10] Включен в настоящий сборник. — Прим. пер.
[11] Вилья-мисериа (исп. villa miseria) — устоявшееся в Аргентине название трущобных, как правило, нелегальных поселений или городских районов, аналогичных бразильским фавелам. — Прим. пер.
[12] Alemán J. Lacan en la razón posmoderna. Málaga: Miguel Gómez Ediciones, 2000.
[13] Х. Алеман имеет в виду лишение в 2015 г. сестры короля Испании Филиппа VI титула герцогини вследствие коррупционного скандала. — Прим. пер.
[14] Фр. avant la lettre — до появления соответствующего понятия (досл. «прежде буквы»). — Прим. пер.
[15] Соледад Ибаньес Сепеда, открывавшая речь Х. Алемана. — Прим. пер.
[16] Х. Алеман использует вариант el Común, говоря об Общем, и тем самым противопоставляет его обычному абстрактному общему (lo común). — Прим. пер.
[17] Althusser L. Escritos sobre psicoanálisis. Freud y Lacan. México: Siglo XXI, 1996.
[18] Хуан Карлос Родригес Гомес (1942—2016) — выдающийся испанский литературовед и философ, ученик Л. Альтюссера. — Прим. пер.
[19] 15-М, или Движение 15 мая (исп. Movimiento 15-M), — левое протестное движение в Испании в 2011–2015 годах, выступавшее против неолиберальных реформ. Изначально массовые выступления начались по призыву «Платформы для координации групп за гражданскую мобилизацию» (исп. Plataforma de coordinación de grupos pro-movilización ciudadana), распространенному в социальных сетях — прежде всего в Facebook и Twitter — под лозунгом «Реальная демократия сейчас!» (исп. ¡Democracia Real Ya!). Движение характеризовалось не только организованными шествиями, но и спонтанными уличными акциями. С самого начала позиционировалось как горизонтальное и не связанное с партиями или профсоюзами. — Прим. пер.
