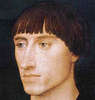Кёртис Ярвин: блеск и нищета неореакции
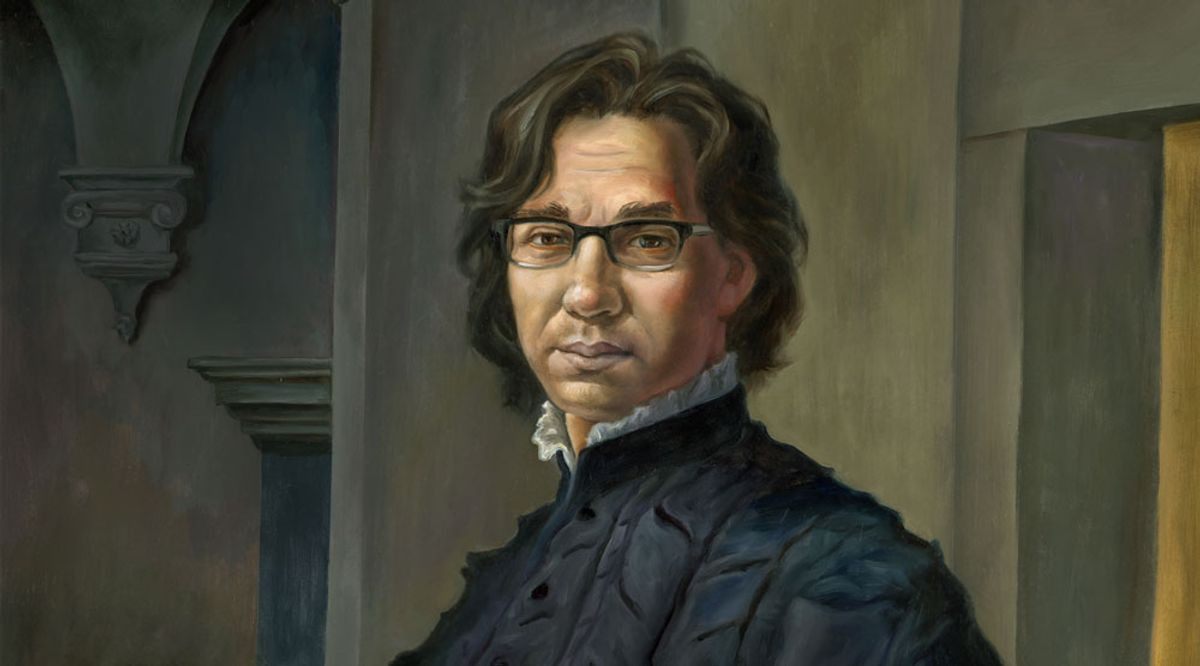
Во время президентства Байдена в информационное пространство вернулся один интернет-суперзлодей. Кёртис Ярвин — в нулевых автор маргинального блога с критикой демократии и прочих священных коров современности — сегодня даёт интервью либеральным СМИ и общается с представителями обоих крыльев трампистов: технократами и популистами. Некоторые даже считают Ярвина одним из интеллектуальных архитекторов новой идеологии Республиканской партии. Чем он так отличился?
Ярвин мыслит не систематично, зато по-дилетантски смело и образно. Он утверждает, что реальная власть в либеральных демократиях принадлежит не избирателям, не политическому классу и даже не крупному бизнесу. А кому тогда? Собору — сети университетов и СМИ, которые создают и распространяют (прогрессивистские) ценности, нормы и правила. По мнению Ярвина, сила (правящего) класса интеллектуалов заключается в том, что консенсус в делах политики, экономики и культуры достигается вне формальных государственных и партийных структур. Это ограждает «браминов» от демократического контроля и освобождает их от ответственности, ведь формально ключевые решения принимают не они, а чиновники и политики. Вместе с тем, Ярвин отмечает, что прогрессивистский консенсус достигается не путём сговора, а благодаря спонтанному порядку, сродни рыночному. Правда, с одним но: побеждают не «лучшие» идеи, а те, которые выгодны Собору и его влиятельным «прихожанам».
Я попытался сделать краткую выжимку идей Ярвина, которые он озвучивал с конца нулевых. Конечно, это не всё, о чём писал edgy блогер, который в своё время на меня повлиял — как минимум книжными рекомендациями. Сейчас значительная часть его политической теории (и ревизионистской истории!) представляется мне неверной. That being said, рассуждения Ярвина по поводу правящих кругов либеральных демократий и способа, каким они достигают согласия и господствуют, всё ещё кажутся мне достойными обсуждения и продуктивного пересмотра. Я имею в виду, что наблюдаемые им и другими гетеродоксальными политическими комментаторами феномены имеют место быть. Просто им нужно дать лучшее объяснение. It’s time to steelman him again.
Ярвин здорового человека
Вряд ли Ярвин часто использует термин правящий класс, а если и использует, то непоследовательно. Ярвин определённо не вдохновлялся марксистской традицией, ведь у него надстройка (идеи и правила, которые создают интеллектуалы) определяет базис (ту или иную конфигурацию олигополистического капитализма и социального государства). В общем, Ярвин обходит вниманием влияние материальных условий на характер и трансформацию элит последних ста лет. И в этом он оригинальничает, ведь отходит от интеллектуальной традиции, к которой можно было бы причислить его самого. Цитируемые им же теоретики элит экс-троцкист Джеймс Бёрнем и идеолог прото-трампистского движения Сэм Фрэнсис указывали на научно-технические, экономические и геополитические факторы, которые в начале 20 века революционизировали западные общества. Как писал Сэм Фрэнсис:
Сложность и масштаб массовых организаций, а также необходимость в высокотехнологичных навыках для их обслуживания, способствуют созданию элит, которые по составу, структуре, менталитету и интересам отличаются от тех, которые правили сословными обществами Европы до промышленных и демократических революций 18 века, и от тех, которые правили буржуазной Европой и Америкой 19 века.
Любопытно, что Бёрнем и Фрэнсис, которых причисляют к крайне правому крылу политического спектра, согласны с марксистами по многим пунктам. Для них неравенство в экономической власти в капиталистическом обществе конвертируется в неравный доступ к государственным институтам. Также, по их мнению, рационализирующие реалии Модерна постепенно приводят не только к стандартизации экономических и политических институтов, но и к гомогенизации элит. Обуржуазненная аристократия и аристократизирующаяся буржуазия, несмотря на партийную или придворную борьбу, были солидарны в сохранении капиталистического статус-кво (с ограничением политического участия масс и социалистических партий) и соответствующих ему ценностей. Однако, в отличие от марксистов (и левых теоретиков элит), Фрэнсис считает, что трансформация капитализма из частнопредпринимательского в корпоративный, а минимального государства в социальное, также привели к трансформации элит. Либеральная демократия и общество потребления послевоенной эпохи также требовали соответствующих правил и норм, которые, в свою очередь, должны были формулировать интеллектуалы. Делало ли это их правящим классом?
Ярвин отвечает утвердительно: глядите, на протяжении нескольких столетий интеллектуалы становились всё влиятельнее! Фрэнсис бы уточнил, что так происходило не потому, что они были убедительными пропагандистами прогрессивистского культа, а потому что обладали высокими компетенциями и навыками в управлении массовыми организациями глобализированного капитализма: корпорациями, госструктурами, НПО, СМИ и индустрией развлечений. В какой-то мере интеллектуалы стали править, но не потому что либеральная демократия — это «теократия», а потому что вхожим в элиту в большей мере, чем когда-либо, тебя делает образование. We are all intellectuals now: экономические, политические и культурные элиты заканчивают одни и те же университеты, что способствует гомогенизации и гармонизации их габитуса и интересов. Поэтому корпоративные менеджеры с лёгкостью переходят работать в некоммерческий сектор и наоборот. Не приходило ли Ярвину в голову то, что Гарвард и Йель воспитывают в элитах либеральный космополитизм, потому что он оптимален для управления глобальным сообществом?
Пожалуй, единственное, в чём согласны Ярвин и его старший коллега, так это в том, что «брамины» грубой силе предпочитают soft power. Фрэнсис объясняет это тем, что для эффективного функционирования космополитическое общество потребления требует либерализации норм и разрушения прескриптивных идентичностей, стоящих на пути свободного движения товаров и людей — «перманентной культурной революции», но с человеческим лицом. В таких условиях верх берут реформистски настроенные элиты с нестандартным мышлением: склонные к критике устоявшихся норм, но стыдящиеся применять насилие — ведь легитимность их господства основана на освобождении граждан от институтов принуждения, ассоциируемых с ещё недалёким прошлым. Несмотря на конфликты по поводу образа светлого будущего, у политического, экономического и культурного истеблишмента формируется общий интерес: защита и расширение менеджериальной инфраструктуры (симбиоза государственной бюрократии, крупного бизнеса и сети НПО) — наиболее эффективного инструмента для управления атомизированным постиндустриальным обществом и для дальнейшей его модификации. Но от кого защищаться-то?
Здесь проявляется прозорливость Сэма Фрэнсиса, которого не просто так турнули из респектабельного консервативного движения. Либеральные элиты боятся не тех, кто ностальгирует по «золотому веку» минимального государства, независимого предпринимательства и местного самоуправления, а тех, кто угрожает перехватить контроль над государством (от которого сегодня зависят и бедные, и богатые), усилить его и использовать для борьбы с либеральными патронами и их многообразными клиентами. Немудрено, что «правый» и «левый» мейнстрим старается делегитимизировать, дискредитировать либо запретить национал-популистские движения, представители которых могут быть носителями чуждого и опасного для них майндсета: охранительского, конфронтационного и бескомпромиссного. В теории, эти люди могут мобилизовать экономические и человеческие ресурсы для решения проблем вроде преступности и аномии, отчасти вызванных действиями либеральных элит. Но для этого мягкой силы будет недостаточно.
Собор сам себя раскрыл
Воспринимать Ярвина всерьёз после знакомства с Фрэнсисом сродни опыту прочтения Маркса после просмотра Жижека. All joking aside, несмотря на систематичность и проработанность политической теории Фрэнсиса, она не даёт исчерпывающие ответы на все странности, что происходят с либеральными демократиями. Тем не менее, в отличие от Ярвина, который любит цитировать маргинальных реакционных авторов Старой Европы, Фрэнсис хотя бы держал руку на пульсе и активно синхронизировал свои тексты с современным ему академическим мейнстримом. Возможно, если бы не преждевременная смерть в середине нулевых, он бы цитировал в своём magnum opus политологов, с которыми мы сейчас познакомимся.
Среди теоретиков элит есть не только циники-аморалисты типа Бёрнема и Фрэнсиса, но и либеральные академики вроде Джона Хигли. В своей книге «Elite Foundations of Liberal Democracy» он, опираясь на масштабный эмпирический материал, указывает на ряд неочевидных и неприятных истин: 1) представительные демократии создаются по инициативе элит, а не по просьбе трудящихся; 2) у этих элит складывается (не обязательно эксплицитный!) консенсус о ценностях и нормах поведения по отношению друг к другу, что позволяет им сделать политическую борьбу более предсказуемой и безопасной. Приведу фрагмент Хигли, где он с полной невозмутимостью лишает либерализм демократического флёра:
Партийная умеренность (restrained partisanship) — общепринятая норма, согласно которой элиты 1) признают за оппозицией право существовать, быть услышанной, обговаривать содержание проводимой политики, накладывать вето на решения и пользоваться представительством, пропорциональным их влиянию; 2) толерируют несогласие, если консенсуса не удаётся достигнуть; 3) сохраняют значительную автономию по отношению к своему электорату; 4) настаивают на технических и процедурных решениях, а не на вопросах абсолютной правоты или неправоты; 5) действуют в достаточной секретности, чтобы обеспечить гибкость при торгах, выработке компромиссов и поиске инновационных решений.
Хигли даже формализует вышеупомянутое Фрэнсисом противопоставление «мягких» и «жёстких» элит. Либеральной, консенсусной (consensually united), элите он противопоставляет разобщённую (disunited), характерную для разнородного сословного общества или современных мафиозных государств, и идеологическую (ideologically united), характерную для тоталитарных военизированных режимов. Хигли указывает на ещё один парадокс: несмотря на заявленный плюрализм и открытую политическую борьбу, элиты либеральных демократий вырабатывают более прочное согласие в ценностях и нормах, чем коммунистические либо ультранационалистические режимы, где (видимое) идеологическое единство достигается через навязанное силой господство одной фракции над остальными. Есть кое-что и для Ярвина: Хигли считает, что неформальный консенсус, который во многом достигается вне государственных и партийных институтов, — не баг, а фича либеральной демократии. Она более гибкая, чем режимы, с командным иерархическим управлением, склонным смотреть на мир как на игру с нулевой суммой. Хигли видит в этом устойчивость и предпочтительность либеральной демократии.
Как либеральное общество масштабировать на весь цивилизованный мир, рассказывает Энн-Мари Слотер — юрист-международник, бывший топ-чиновник Госдепа США. В своей книге со зловещим, но плохо состарившимся названием «A New World Order» она утверждает, что эффективное функционирование глобального экономического и правового порядка требует расщепления (disaggregation) государственной вертикали, которое позволит отдельным ветвям власти и департаментам кооперироваться со своими иностранными коллегами. Важная оговорка по Слотер: за неимением международного регламента и общей принудительной инстанции взаимодействие министров финансов, чиновников-регуляторов, судей и прочих экспертов с необходимостью будет иметь неформальный характер. Слотер не считает, что это помешает выработке общепринятых норм и механизмов коллективного принятия решений. Скорее, наоборот: консенсус, выработанный горизонтальными профессиональными комьюнити вне жёстких межгосударственных структур, будет более гибким и подходящим для анархического глобализированного мира. На опасения критиков «нового мирового порядка», которым управляют непонятно кому подотчётные сети экспертов, Слотер отвечает, что профессиональные сообщества дорожат репутацией, поэтому будут выступать друг для друга чем-то вроде системы сдержек и противовесов. Но будут ли иметь голос те, кто не принадлежат к профессиональному классу?
На это есть ответ, и он бы понравился Ярвину, если бы тот больше читал и меньше говорил. В книге «Democracy and the Cartelization of Political Parties» политологи Ричард Кац и Питер Мэйр во многом подтверждают вышеуказанные опасения: начиная с конца 20 века западные политики всё чаще передают важные решения невыборным чиновникам и экспертам, что стирает различия между программами партий, которые, согласно демократической логике, должны предлагать избирателям альтернативы. Кац и Мэйр связывают феномен картелизации политических партий с 1) деидеологизацией, профессионализацией и технократизацией политики; 2) сближением — если не сращиванием — мейнстримных партий с государством, которое предоставляет им финансирование и социальную защиту в обмен на регулирование их деятельности; 3) формированием более гомогенного политического класса, изолированного от деполитизированного и «демобилизованного» электората. Такой вот новый мировой порядок…
Дальше Кац и Мэйр совсем уже наглеют. Они сравнивают положение мейнстримных партий современных либеральных демократий, идущих на всевозможные уловки, чтобы не допустить к власти национал-популистов, с… олигархическими партиями 19 века! Тогда массовые партии угрожали правам и привилегиям имущих меньшинств, поэтому те старались либо дискфалифицировать, дерадикализовать или кооптировать социалистов, либо разделить суверенитет таким образом, чтобы наделённое правом голоса большинство не могло существенно повлиять на ряд политических вопросов. Власть имущие сегодня точно так же опасаются мажоритарной демократии: создают независимые (от граждан) судебные и финансовые институции, отъединяют гражданство от ранее ассоциируемых с ним прав и привилегий, гарантируют разным слоям населения конфликтующие друг с другом права и привилегии. Элиты Старой Европы хотя бы были честны в том, что защищали (классический) либерализм от демократии! Их потомки же пытаются усидеть на двух стульях: пользоваться народным мандатом для проведения реформ над этим самым народом, избавившись при этом от рисков, связанных с выборами и мобилизацией электората. Похоже, Ярвин неправ не во всём.
На пути к постлиберальному будущему?
Когда Ярвин начинал писать свой блог, либеральная демократия казалась устойчивой и оптимальной государственной моделью. По крайней мере, на Западе. Критиковали этот венец политического развития лишь маргиналы. Сегодня же критики либерализма как никогда близки к мейнстриму и к лицам, принимающим ключевые решения. Печально правда, что последние, которые становятся первыми, не являются интеллектуалами высокого класса. Я применил к аргументам Ярвина принцип доверия, но без этого его критика демократии и апология CEO-диктатуры выглядит по-подростковому максималисткой и наивной. Хоть я и верю, что в политике практика важнее теории, это не значит, что можно с умным видом вещать ерунду…
Либеральная демократия — всего лишь один из вариантов политического режима. У неё есть свои преимущества и недостатки. Абсолютно понятны попытки во что бы то ни стало защитить социально-политические достижения, связанные с послевоенной эпохой: словом и делом. Также ясно, что всегда найдутся те, кто будут атаковать консенсус — особенно, когда он уже не так прочен. Вместе с Фрэнсисом, Хигли и Ярвином я считаю, что политический порядок рождается из кооперации и конкуренции элитных групп, по их же вине наступает хаос. Власть и легитимность сохраняет тот, кто обладает необходимыми для этого качествами. То же самое можно сказать о претенденте на трон: он возвышается, потому что может. Независимо от того, кто победит в противостоянии «старого» и «нового», нас всех ждут весёлые времена…
Что почитать:
Francis S.T. "Leviathan and Its Enemies: Mass Organization and Managerial Power in Twentieth-Century America" (2016) // Washington Summit Publishers
Higley J. & Burton M. "Elite Foundations of Liberal Democracy" (2006) // Rowman & Littlefield Publishers
Katz R.S. & Mair P. "Democracy and the Cartelization of Political Parties" (2018) // Oxford University Press
Slaughter A.M. "A New World Order" (2004) // Princeton University Press
Yarvin C. "#3: descriptive constitution of the modern regime" (2020) // Substack