Становление варварское или дикое: об истории настоящего. Статья Кадера Мокадема из книги «Шарль Бодлер & Вальтер Беньямин: Политика & Эстетика»
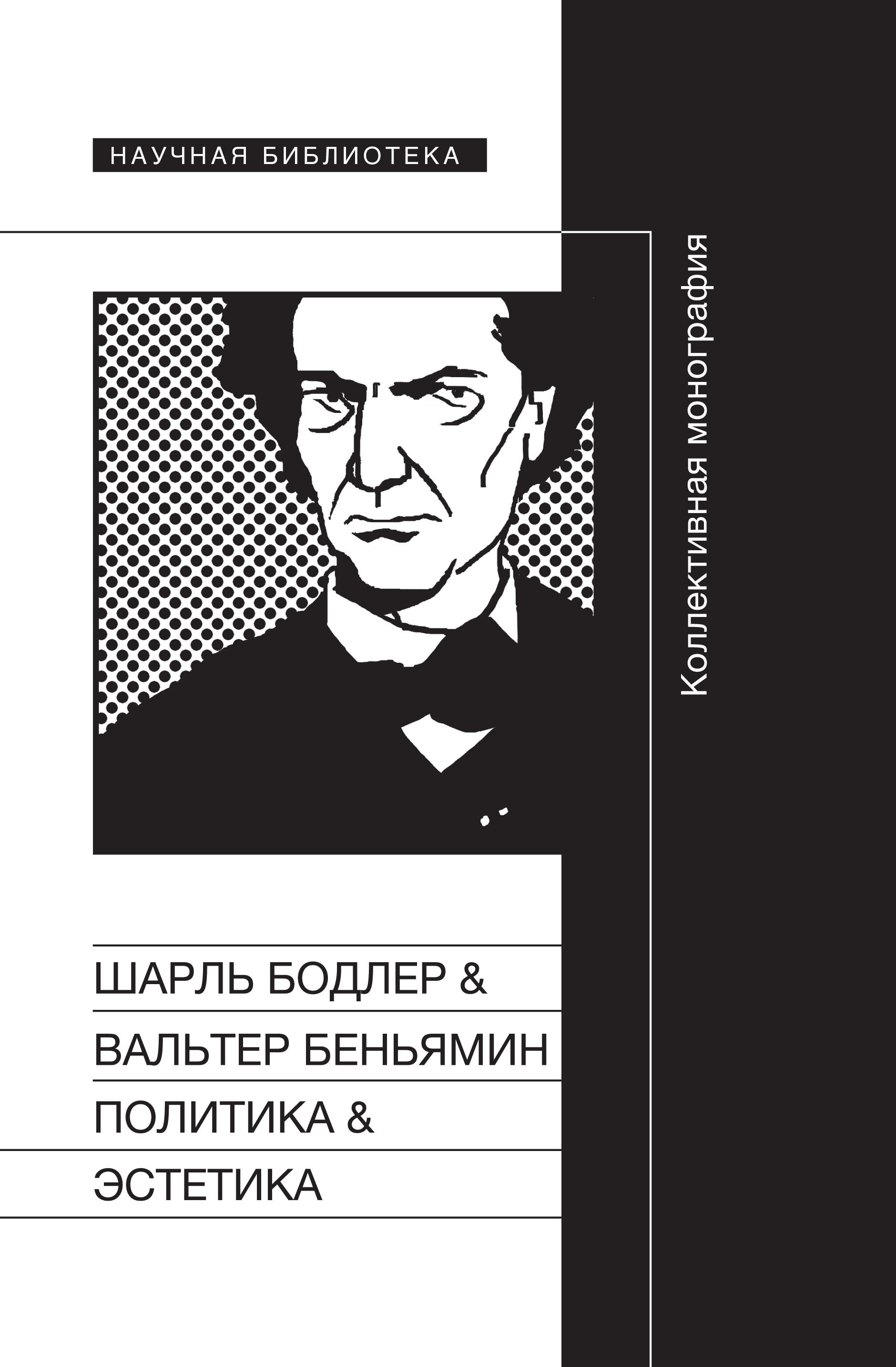
У вас нет права презирать настоящее [1].
Смятение есть нечто основополагающее, в этом смысл этой книги. Но наступает время достичь ясности сознания… наступает время… Порой даже кажется, что времени-то не хватает. По крайней мере, оно торопит. В конечном счете литература должна объявить себя виновной [2].
Китайцы узнают время по глазам кошек. Как-то раз один миссионер… спросил у малыша, который час. Сорванец небесной Империи поначалу смутился; потом, сообразив, ответил: «Сейчас скажу!» Через несколько мгновений он появился снова, держа на руках огромного жирного кота, и сказал не колеблясь: «Полдень еще не наступил». Что было чистой правдой. Что до меня, то когда я склоняюсь к прекрасной Фелине… я всегда отчетливо вижу, какой сейчас час, все время тот же самый, час обширный, величественный, торжественный, подобный пространству, не поделенный ни на минуты, ни на секунды, — час неподвижный, который не отмечен на часах, и вместе с тем легкий, мимолетный, как вздох, быстрый, как взгляд…
Да, я вижу, какой сейчас час; это час Вечности [3].
Возможность мыслить историю вне архива своеобразно сформулирована Вальтером Беньямином в одном из последних его текстов, озаглавленном «О понятии истории» [4].
Архив — это не собрание документов; впрочем, в современности, которую мыслит Беньямин, сам документ переменил свою природу: этнология, история, сюрреализм преобразовали восприятие и природу исторического документа. Отношение указания на
Документ приходит в упадок по отношению к системам производства истинностных положений, или некой системы истины.
Реальность документа заключается собственно в самом восприятии, которое производит отбор, селекционирует, просеивает реальность, бороздит ее, буравит, испещряя множеством «погружений», открывающих взгляд на
Таким образом, тот критический анализ фотографии, который дает Бодлер, складывается на основе этого нового понимания двоякого отношения к реальности: имманентная трансцендентность в рисунке и живописи, составляющая сущность искусства, и — с точки зрения фотографии — имманентность имманентности: научность фотографии, ее тяга к деталям и т.п. Фотография отсылает к реальности по ту сторону реальности — к бессознательному, имплицитному.
Этот упадок выражается в распаде единства документа; он ассоциируется также с контролем над механизмами по производству документов. Действительно, как раз вариации реальности в объектах позволяют схватить эту реальность в ее материальности.
Документ становится механизмом высказывания о реальности, которая таким образом сама себя удостоверяет; в то же время документ становится системой вариаций этих высказываний. В этом смысле следует понимать название жанра, данное Полем Валери литературе определенного рода: разности, или смесь [5].
Такое преобразование понятия документа странным образом накладывается на те изменения когнитивных установок, которые происходят в конце XIX — первой половине ХХ века.
В самом деле, развитие особых антропологических дискурсивных режимов (чему способствует в первую очередь развитие археологии — восточной и доисторической, а также усиление интереса к материальной цивилизации, к размыванию границ между разнородными научными дисциплинами) позволяет сместить специфические характеристики вещи, самого объекта, получить новый доступ к статусу документальности как ценности указания на
Все это необходимо рассматривать и как изменение способов производства объектов, а тем самым — как изменение их ценности, и как изменение взгляда.
Например, ориентализм как особый взгляд на мир, равно как археология и антропология, вызывает смещение по направлению к эстетическому восприятию объекта. Документ переходит из состояния вещи к состоянию объекта, инвестированного герменевтическим взглядом: документ, таким образом, становится вещью. Которая сама на себя смотрит, которая сама себя прочитывает в процессе интерпретации. Документ появляется по-настоящему в тот момент, когда взгляд начинает ощущать себя клиническим, критическим, аналитическим, порождая тем самым эстетику, каковая перестает быть мышлением художественного вкуса. Такая проблематизация документа характерна для исследований Фуко по археологии медицинского взгляда. Интерпретация перестает быть связанной с порядком субъективизма или релятивизма: она заключает в себе развитие множественности точек зрения вокруг одного объекта, который может быть текстуальным или, во всяком случае, дискурсивным и как таковой может относиться к фактичности [6].
В этом отношении документ — не только архив, но и материя.
Понятие архива отсылает к собиранию, к коллекционированию чего-то рассеянного, разбросанного (разнообразия реальности, если вспомнить здесь выражение Канта). Архив проникает также в ткань текста-записи-регистрирования реальности: отсюда его важность в литературе для производства эффекта реальности посредством более или менее неожиданного, более или менее поддающегося описанию введения вещей (Бальзак, Бодлер…), хотя речь не идет еще о самом присутствии объекта, к чему будут стремиться дадаизм и сюрреализм.
Документ прочитывается тогда как пережиток прошлого, как нечто потустороннее архиву — и вместе с тем как источник способности восприятия. Архив дается всего лишь как некий след изначальности времени, который соотносится со способностью его расшифровки. Документ как пережиток требует воплощения, точнее говоря, повтора, некой формы повторного воплощения в интерпретации как форме дешифровки: например, существует различие между чтением какого-либо текста и высвобождением его смысла, в этом, собственно, заключается сущность критической операции, согласно Вальтеру Беньямину.
В процессе трансформации взгляда на документ особого внимания заслуживает история журнала «Документы» (1929), с которым сотрудничал Жорж Батай. Восприятие объекта документа изменяется благодаря присутствию в журнале этнологического взгляда. Джеймс Клиффорд [7] показал в своей работе все значение этой метаморфозы объекта в процессах разрывов и сломов в современном искусстве. Собственно говоря, сам подзаголовок журнала необыкновенно красноречив: «Документы — Археология, Изящные искусства, Этнология, Разности». Что же такое документ в этом окружении? Документ представляет собой кристаллизацию момента реальности. Другими словами, документы по определению лишены иерархии, чужды проблемам учреждения: разумеется, существуют разного рода коллекции, собрания, серии, но с документами нет и не может быть никаких строгих последовательностей, подразумевающих хронологический порядок. Объект как документ есть свое собственное присутствие, свое собственное высказывание, он обладает собственной способностью генерировать или дегенерировать всякого рода значения (речь о статусе текстуальности как условии возможности становления литературы).
В сущности, документ высказывает невозможность некоего компактного мира, логического порядка существования; он не говорит ничего, кроме того, что говорит сам мир, высказывая собственную конкретность. В этом отношении документ уклоняется также от всякого рода институций по выработке критериев, реперов, всякого рода определителей, относятся ли последние к реальности или к истине. В этом смысле документ обнаруживает также свою способность не только информировать человека, но и формировать его вместе с окружающим миром, другими словами, лишать его привилегии формообразования. Документ противополагает себя историческому монументу, документ — это открытие процедур и процессов формулирования, в то время как монумент представляет собой формализацию в наличном результате:
Документ все время противостоит объекту искусства, он предполагает другое время, это не
Восприятие документа вписывается, таким образом, в историю, каковая есть история присутствия документа, его настоящее, его актуальность. Стало быть, это восприятие есть не что иное, как манифестация разнообразия форм цивилизации и упразднения превосходства одной культуры над другой: такое превосходство обеспечивается только посредством какого-либо ужасного переворота в истории [9]. Протест сюрреалистов против колоний и колониальных выставок — это не поза, равно как нельзя свести к позе антиконсервативную, антисобирательную, антимузейную позицию журнала «Документы». В сущности, с открытием документа речь идет об открытии горизонтального восприятия цивилизаций и культур, когда предпринимается попытка учитывать способность объекта становиться документом, отсылающим к реальности: «Только та наука, которая отказывается от своего музейного характера, может заменить иллюзию реальностью» [10].
Документ позволяет особое, отложенное, отсроченное отношение к реальности, документ позволяет воздействовать на нее, а не только ее прочитывать. В работе «Улица с односторонним движением» запечатлен небывалый опыт этого нового отношения к реальности, возникающего под воздействием документа:
…Подлинная литературная деятельность не имеет права оставаться в пределах литературы… Значимая литературная работа может состояться лишь при постоянной смене письма и делания; надо совершенствовать неказистые формы, благодаря которым воздействие ее в деятельных сообществах гораздо сильнее, чем у претенциозного универсального жеста книги, — ее место в листовках, брошюрах, журнальных статьях и плакатах. Похоже, лишь этот точный язык и соответствует в самом деле настоящему моменту [11].
Сочинения используют сырье реальности, ее грубые элементы, которые приобретают в них новые конфигурации, отливаются в новые формулировки, достигая исключительного в своем роде опыта обнаружения самих ставок настоящего момента. Материя, материал документа, просто-напросто выхваченного из текущего восприятия реальности, находится в самом центре политической мысли Вальтера Беньямина [12].
Как же он подходит к документу?
В своем подходе он нацеливается на чистую материальность — в этом смысле Беньямин близок к концепции материализма малых вещей, низкого материализма, который не позволяет себе прославления реальности; он далек от такого материализма, что сосредотачивается на форме. Речь идет о материализме бесформенного, который практиковался журналом «Документы», но также и о материализме самой материи, материализме ничтожности материи на уровне культурной ценности:
Чистая материальность документа или свидетельства обусловливает то его свойство, что он не претендует ни на что: ни на художественную красоту, ни на истину [13].
Таким образом, работа, которую должен совершить философ и которую должен практиковать историк-материалист, сводится к тому, чтобы создавать условия для своего рода профанного озарения, некую форму открытия реальности в самой материи, которая никоим образом не сводится к формализации материи, к облечению ее неким значением: речь о том, чтобы развернуть то, что разыгрывается в самом материальном производстве. Собственно, такой замысел и заключен в «Книге пассажей», основанной на критическом чтении Беньямином поэтической прозы Бодлера, которая являет собой опыт по дефигурации и обесформливанию реальности.
В этой перспективе нет и не может быть ничего незначительного — это просто борьба против нечитабельности реальности в ее историко-культурном построении. Чтобы реальность не ускользала от нашей герменевтики, от интерпретативного чтения, следует всерьез принимать все свойства материи, не считаясь с классическими приемами написания истории. Такого рода серьезность письма, микрописьма хроникера, для которого ни один элемент реальности не может быть поставлен выше другого, сказывается в работе Беньямина «О понятии истории»:
Хроникер, повествующий о событиях, не различая их на великие и малые, отдает тем самым дань истине, согласно которой ничто из единожды произошедшего не может считаться потерянным для истории… Это означает: лишь для спасенного человечества прошлое становится цитируемым, вызываемым в каждом из его моментов. Каждое из его пережитых мгновений становится citation a l’ordre du jour (цитатой повестки дня), а
Историк-материалист, хроникер, летописец пытается собрать в своем повествовании реальную невозможность событий, работает над тем, чтобы собрать бесформенное, невозможное, если использовать здесь словарь Барта; он работает, чтобы испытать невозможность представления реальности [15]. Свести проблематику к простой проблеме исторического смысла — значит снова вернуться к фигуре архива. Но здесь складывается нечто более сильное, нечто такое, что касается явления самой материи, исторического становления материи — событийной плотности. Ценность цитаты повестки дня в том, что она играет роль одновременно и эпиграфа, и надгробной надписи.
Неразличение ценности не сводится к утрате ценности или смысла, но заключает в себе созидание события, стоящего на повестке дня и представляющего собой нечто исключительное. «Каждое из событий» отсылает к некоему различию, которое перестает быть иерархическим и является при этом различением смысла, происходящим внутри самого события. Различие заключается в самом событии как его собственное настоящее. Различие «каждого из событий» — это такое различие, которое может позволить остановить, замкнуть время само на себя.
Вот почему документ развивает свое собственное свойство, некую интенсивность сопротивления, нечто такое, что необходимо испытывать именно как сопротивление. Именно в этом отношении варварство вступает в противоречие с западной культуралистской концепцией и может приобрести нечто позитивное. Позитивное варварство сюрреализма являет собой в конечном итоге лишь крайний момент, мгновение в постепенном разоблачении абсурдности идеи прогресса в искусстве. Позитивная роль варварства в том, что оно выявляет некую идею, рискуя вместе с тем породить гораздо более страшное варварство. Работа «Разрушительный характер» (1931) призывает к такого рода высвобождению новых горизонтов. Беньямин пытается удержаться на этой позиции, поскольку она позволяет «разрушать существующее не ради любви к мраку, но из любви к пути, идущему сквозь этот мрак» [16]. Сюрреалистическое варварство — это не варварство по неведению, не варварство незнания, это варварство того, кто на себе испытывает «крайние пределы возможного», чтобы взорвать материю культуры.
И когда крайние пределы возможного действительно составляют экзистенциальные условия существования человека, варварство становится одной из самых сильных ставок цивилизации:
Новая нищета обрушилась на людей в силу невероятного развития техники… Да, признаем это: скудость опыта затрагивает не только личную сферу, она обозначает также обеднение человеческого опыта как такового. Откуда возникает новый вид варварства. Варварства? Действительно. Мы употребляем это слово, чтобы ввести новое понятие, новый позитивный концепт варварства. Ибо куда бедность опыта приводит варвара? Она приводит его к тому, чтобы начать с начала, чтобы все начать заново, чтобы выпутаться из этой ситуации как можно легче, чтобы с этого начать новое строительство, не оглядываясь ни направо, ни налево17.
Это положение из работы «Опыт и бедность», датированной 1933 годом, будет повторено в статье «Рассказчик, размышления о творчестве Николая Лескова» (октябрь 1936). Призыв к повышенному вниманию в отношении утраты опыта, которая может послужить основанием для политического сопротивления, становится требованием иной формы опыта политического, приостановления действия справедливости, на которое указывает последняя фраза текста о Лескове: «Рассказчик является такой фигурой, в которой праведник узнает самого себя»18. Справедливость здесь в том, чтобы правильно рассказать ход жизни. Рассказчик становится историком таких форм жизни, что разрушаются или разламываются политической темпоральностью современности. Эта возможная справедливость политического в рассказе, в повествовании рассказчика возникает также в изложении проблематики письма истории. Основные тезисы работы «О понятии истории» сводятся к требованию переоценки, переосмысления исторического повествования. В тезисах III–VIII рассматриваются модальности этого пересмотра исторического повествования: хроника, образ, воспоминание; все эти темы присутствовали и в более ранних текстах Беньямина.
Переосмысление истории основывается на идее такой истории, в которой десакрализуется архив как начало истории. Архив здесь — не архе истории; это сопротивление искушению хайдеггеровской историчности и согласия включить образ в историческое повествование для того, чтобы историзовать само историческое.
Документ не просто порождает некое письмо истории, он превращает ее в руины — история, которая пишется в форме руин, только и может что стать историей, экспериментирующей с особыми формами формализации, поскольку в документе она открывает для себя другой опыт реальности.
Работа «О понятии истории» зачастую без должных на то оснований рассматривается исключительно с точки зрения выражения некоего мессианизма В. Беньямина. На наш взгляд, в нем представлена концепция, восходящая (и как к источнику, и как к первоначалу) к размышлениям Ницше об интересе истории, Маркса — о ее действительной ценности, Брехта — о ее актуальности. В ней выражены также соображения, близкие к идеям Бодлера о моде и присутствии настоящего, в общем — о современности в том смысле, в каком разрабатывал это понятие автор «Сплина Парижа», пытаясь избежать влияния эстетических и политических тенденций своего времени:
Удовольствие, которое мы извлекаем из представления настоящего, держится не только на красоте, каковой оно может быть облачено, но также на его сущностном качестве присутствия в настоящем времени [19].
Настоящее время Бодлера не имеет, как это ни парадоксально, твердого, обеспеченного присутствия в настоящем, оно представляет собой всего лишь такое разворачивание мимолетности, которое вызывает в мыслях идею модели. Соображения Беньямина в работе «О понятии истории» — это попытка снова схватить такого рода настоящее, с тем чтобы обнаружить своеобразную модальность его явления и в виде модели, и в виде моды. Речь идет о мимолетности, о внезапности, о странной форме бытия настоящего от случая к случаю, представлением которого открывается первый тезис работы — Беньямин говорит о шахматном автомате, сконструированном особым образом: «Считалось, что [автомат] всегда мог ответить на каждый ход партнера по игре такой уловкой, что неизменно выигрывал партию». Парадокс этого механизма в том, что он обуславливает возможность особого восприятия мгновения прямо на месте, здесь и сейчас, но не всякий раз, а лишь от случая к случаю. Сущностной характеристикой этого специфического модуса явления настоящего является то, что оно определяется в виде своего рода увертки, ускользания от реальности, которой и оборачивается «уловка» шахматного автомата. Определение истории, разворачивающейся от случая к случаю, обуславливается возможностью схватить мышлением (то есть через изобретение концептов) разнообразие и разнородность истории.
В самом деле, «уловка» представляет собой некую динамику тела (форму характерного для Беньямина марксистского материализма), вместе с тем речь идет об особом способе афишировать тело в таком эстетическом измерении, которое позволяет схватить настоящее. Карлик, спрятанный в шахматном автомате, представляет собой такую своеобразную эстетическую диспозицию тела. В своей горбатости, изогнутости он сливается с образом маленького горбуна: и тот и другой живут в ожидании распрямления. Представление диалектического материализма в виде воплощенного мгновения является характеристикой диалектического образа как особого аллегорического диспозитива.
Определение концептуальных ставок философского видения истории, которое представляет Беньямин в одной из последних своих работ, позволяет обнаружить его близость неким поэтическим формам, разрабатывавшимся Бодлером в середине XIX столетия.
Действительно, Бодлер смог преодолеть очарование метафоры, обратившись к аллегорическому строю мышления. Он создает в «Малых поэмах в прозе» новую двурогую поэтическую форму — «без хвоста и головы» [20], то есть по ту сторону порядка и иерархии; она позволяет ему осознать всю мощь аллегории как диалектического образа. Текст превращается в серию вспышек, которые освещают и обнаруживают самые сущностные характеристики современной жизни для того, кто остается ей посторонним, чужим. В сущности, в «Сплине Парижа» Бодлер приходит к этнологическому взгляду на современный город.
Трюк с шахматным автоматом, о котором рассказывается в первом тезисе «О понятии истории», тоже представляет собой аллегорию, некое смещение могущества философского слова. Аллегория заключает в себе такой диспозитив восприятия другого, который позволяет воспринимать его так, будто он находится в другом месте; вместе с тем она позволяет говорить об этом другом по-другому.
В своем видении истории, основанном на историческом прочтении поэтической прозы Бодлера, Беньямин выстраивает свое высказывание в модусе различия, что сближает стиль его мышления с экзотизмом. Такого рода экзотизм не исключает и своеобразного измерения живописности, отличающего критическое письмо Бодлера, когда он разбирает ориенталистские тенденции в современной ему живописи в своих «Салонах».
Соединение в последней работе Беньямина фигуры шахматного автомата с деформированной физиологией карлика поворачивает эстетическое восприятие в сторону еще не изведанных возможностей практики политической философии. Другими словами, фактическая история не может быть помыслена в виде обычной логической, хронологической последовательности событий; именно такое положение вещей предполагает переоценку самого понятия настоящего через концепт «дикого», то есть неокультуренного, неодомашненного становления. Следует осознать, что настоящее представляет собой резкий срез в течении времени, своего рода шок, провоцирующий усиление эстетического восприятия. В этом смысле философия материалистической истории призвана заниматься тем, что ускользает — в силу своей инаковости, в силу своего отличия — от истории как университетской дисциплины. Классическое историческое повествование не могло прибегать к аллегории, поскольку последняя рассматривалась в рамках традиционной науки лишь как элемент живописного экзотизма, как анекдот, противоречащий смыслу, значению и ценности истории как науки. История постигала историю, избегая аллегории, эта историчность истории предопределяла ее монологичность, исключительную в своем роде дискурсивность, за рамками которой неизменно оставались всякого рода руины, осколки, обломки — из чего Беньямин и собирал свою историю, опираясь на Бодлера.
Памяти Франсуа Зурабишвили
Перевод с французского Ольги Волчек
[1] Baudelaire Ch. Le peintre de la vie moderne // OEuvres complètes. I. Paris, 1975 (далее — OC I). P. 553–554.
[2] Bataille G. La littérature et le mal. Paris, 1957. P. 7–8.
[3] Baudelaire Ch. L’horloge // Petits poèmes en prose. OC I. P. 158.
[4] Текст Беньямина по трехтомному изданию «Галлимара»: Benjamin W. OEuvres I—III. Paris, 2000. Folio Essais (далее ссылки на это издание — сокращенные: OEuvres, с указанием тома и страницы).
[5] Одна из предрасположенностей новейшей и современной философии заключается в опыте актуализации форм дискурса для определения актуальности концептуальных задач. Было бы интересно инициировать историю «актуальных форм» философии (возможно, такой тип формального восприятия вопрошания концепта связан с определением политической ангажированности философа: Маркс с его сочинениями на злобу дня послужил бы в данном случае замечательным образчиком). В качестве примера можно указать, что у Беньямина постоянно присутствовало это стремление к преумножению форм дискурса (различные проекты журналов, а также эксперименты в «Улице с односторонним движением» и «Берлинском детстве»). На деле такая установка реализуется в «Ситуациях» Сартра, к которым в этом отношении восходят «Обстоятельства» Бадью.
[6] В «Рождении клиники» Мишель Фуко разворачивает критические модальности этой актуализации взгляда в виде диспозитива одновременно и клинического, и эстетического. См.: Фуко М. Рождение клиники. М., 1998.
[7] Cliff ord J. Malaise dans la culture. L’ethnographie, la litterature et l’art au XXe siecle. Paris, 1996. P. 121–153.
[8] Barberger N. Le reel de traviole. Presses universitaires du Septentrion, 2002. P. 43.
[9] «В своей традиционной форме история пыталась “обратить в память” памятники прошлого, превратить их в документы и заставить заговорить эти следы, которые сами по себе часто бывают не вербальными или же молча выражают со-всем не то, что они говорят; в наши дни история — это то, что превращает документы в памятники, и что там, где мы расшифровывали следы, оставленные людьми, там, где мы пытались распознать по отпечаткам, чем они были раньше, теперь возникает масса элементов, которые необходимо изолировать, сгруппировать, сделать релевантными, соотнести друг с другом и объединить в целое» (цит. по: Foucault M. L’archeologie du savoir. Paris, 1969. Р. 14).
[10] Benjamin W. Histoire litteraire et science de la litterature // OEuvres I. Р. 146.
[11] Benjamin W. Poste d’essence in Sens Unique. Paris, 1978–1988. P. 139.
[12 ]Натали Барберже рассматривает этот вопрос в связи с работой журнала «Документы» и размышлениями Вальтера Беньямина. См: Barberger N. Le reel de traviole. P. 24–48.
[13] Frommer F. Walter Benjamin. L’illumination profane et la «main heureuse» // Mouvement. 2004. № 33/34. Р. 186–192.
[14] Benjamin W. Sur le concept d’histoire // OEuvres III. P. 429.
[15] «Литература занята тем, что пытается что-то изобразить. Что именно? Скажу прямо — реальность. Реальность нельзя изобразить, и поскольку люди все время хотят изобразить ее при помощи слов, и существует история литературы» (Barthes R. Lecon. Paris, 1978. P. 22–23).
[16] Benjamin W. Le caractere destructeur // OEuvres II. P. 332. Вероятно, речь идет о ссылке и — одновременно — дистанцировании в отношении выражения Ницше, говорившего «о рафинированном фланере сада знания».
[17] Benjamin W. Experience et pauvrete // OEuvres II. P. 365–366.
[18] Benjamin W. Le conteur. Refl exions sur l’oeuvre de Nicolas Leskov // OEuvres III. P. 151.
[19] Baudelaire Ch. Le peintre de la vie moderne // OC I. P. 547.
[20] Baudelaire Ch. Dedicace a Arsene Housaye des Petits poemes en prose. P. 146.
Книга «Шарль Бодлер & Вальтер Беньямин: Политика & Эстетика» выйдет в серии «Научная библиотека» издательства «Новое Литературное Обозрение» летом 2015 года
