Строя коммунизм на лету: траектория Александры Новоженовой

С Сашей Новоженовой мы познакомились, наверное, во второй половине нулевых. Она работала обозревателем искусства в «Афише» и позвонила, чтобы уточнить ряд деталей для своей статьи. В итоге мы проговорили значительно дольше, чем это предполагает деловой звонок, и продолжали общаться в дальнейшем. Саша внезапно возникала и так же внезапно исчезала. Многие наши беседы оставались неоконченными. Она всегда была немножко как оголенный провод — резка, спонтанна, рискованна и порой радикальна в своих суждениях. Это давало ее работам глубину, но одновременно с этим обусловливало их «нестабильность». С Сашей всегда было интересно, как и с ее текстами, но часто после общения оставалось больше вопросов, чем ответов. Впрочем, это не самое плохое качество для интеллектуального продукта.
Теперь печатью стремительности, порывистости, неоконченности отмечено все ее творческое наследие. У Роберта Берда (американского слависта и мужа Кристин Кер, чьей студенткой была Новоженова) есть статья «Как строить коммунизм на лету»[1] о том, как опыт полетов и строительства летательных аппаратов в авиамодельных кружках в стремительно меняющихся постреволюционных условиях повлиял на построение коммунистического общества. В
+++
Так вышло, что в случае с Сашиными текстами я был простым потребителем. Однако у меня был опыт творческого взаимодействия с ней в плоскости искусства. Наверное, не все знают, но она не только хорошо рисовала, но и имела дизайнерское образование. Вскоре после нашего знакомства я попросил ее помочь мне с проектом для Третьяковской галереи «Музей пролетарской культуры». Это была вольная интерпретация экспериментальной комплексной марксистской экспозиции Алексея Федорова-Давыдова.
Выставка рассказывала о воображаемом будущем, в котором победила пролетарская революция, и состояла из произведений, вошедших в новый канон истории искусства. В качестве экспозиционной формы я предложил что-то вроде самокритичной версии музейного дизайна будущего, опосредованного прошлым. Ведь футурология всегда больше говорит о настоящем, всегда ограничена образами, уже существующими в нашем сознании. Однако открытое признание этого факта дает рефлексивную ретрофутуристическую рамку, открывающую возможность работать без оглядки на курьезы человеческого воображения касательно грядущего. Задача создания такой рамки была одной из важнейших в проекте. Саша взяла на себя важную роль в ее реализации, по сути, сделав весь 2D-дизайн, включая логотип (который мы решили поместить на обложку каталога), верстку, выбор шрифта и пр. Помню, как она пропагандировала мне гельветику и в целом модернистский дизайн как лучшее решение для работы. Ее вклад в создание ретрофутуристической атмосферы экспозиции 1960–1970-х годов был существенным. При этом мы много спорили как о формальных вопросах, так и о структуре производственного процесса. Наши отношения внутри проекта не были равными: последнее слово оставалось за мной. Саша же искала возможности равноправного сотворчества в коллективе.
Чуть лучше получилось в случае с «Педагогической поэмой» — проектом, который мы с Ильей Будрайтскисом и Катей Чучалиной примерно в то же время инициировали в бывшем Музее Революции на Пресне. Идея была в том, чтобы создать художественное произведение в форме образовательной программы с возможностью переосмыслить наследие Музея Революции. Саша была нашим активным слушателем и коллегой по работе. Хотя и здесь не обошлось без споров.
+++
Описание того, каким могло бы быть искусствознание, построенное на научных марксистских основаниях, Саша Новоженова дала в тексте «От социологического детерминизма к классовому идеалу. Советская социология искусства 1920-х годов». Это, пожалуй, самое законченное и академически выверенное из всех ее сочинений. Не претендуя на анализ современной ситуации, Новоженова ставит своей целью указать на произошедшее со временем слипание структурно довольно отличающихся подходов к искусству марксистских социологов 1920–1930-х. В советской науке и впоследствии в немногочисленных публикациях 1990–2010-х, несмотря на все различия, как творчество производственников (в аспектах социологического анализа) Арватова, Чужака и Тарабуркина, так и работы Федорова-Давыдова, Федора Шмита, Иеремии Иоффе, Мацы, Переверзева и Фриче были маркированы общим термином «вульгарная социология».
Первая часть приведенного выше списка имен относилась к торетекам, помещавшим искусство внутри того, что в марксизме называется «базис», внутри производственных отношений (наравне с другими типами индустриальной продукции), и уже потом анализировавшим те или иные идеологические, содержательные, действующие на уровне «надстройки» следствия такого положения. В терминологии 1920–1930-х о них можно говорить как о «формсоцах» (неологизм для формалистов-социологов): «Они ориентировались в своем анализе не на “содержание» объекта, а на конкретную форму вещи, сама материальная структура которой зависит от условий потребления, производства и дистрибуции искусства»[2] — то есть ориентировались на то, как художественное произведение функционирует в качестве продукта производственных отношений. Вторая часть списка перечисляет «идеологистов», которые многое взяли в своих интерпретациях от пионера марксистской эстетики Плеханова и отводили искусству место исключительно внутри идеологии, внутри «надстройки” (художник как идеолог класса). Искусство в их интерпретации было прежде всего содержательным отражением тех или иных исторических обстоятельств, то есть базиса; формальные ограничения, накладываемые типом производства и потребления, выводились за скобки. Такой подход требовал поиска сильных корреляций между содержанием, сюжетами, образами искусства и репрезентируемой в искусстве политико-экономической формацией в качестве детерминанты. Это зачастую и давало повод для обвинений в вульгаризации, то есть в механическом переносе марксистских интерпретаций на неподходящий материал (например, когда прогрессивность искусства сводилась к сюжетному воспеванию пролетариата, так что в случае непролетарского происхождения художника или отвлеченного сюжета реакционность становилась неминуемой). Симпатии Новоженовой были очевидно на стороне «формсоцовцев», хотя и идеологисты очевидно представлялись ей более прогрессивными (
Как и многие проекты 1920-х, марксистская социология не успела сложиться ни как теоретический метод изучения искусства, ни как экспериментальная практика его производства и демонстрации. На место экспериментальной комплексной марксистской экспозиции Федорова-Давыдова пришла марксистская соцреалистическая экспозиция в редакции Лифшица. Новоженова критикует соцреалистический поворот за классовый эссенциализм — отказ от рефлексивного (социология направлена на выявление реально существующего положения класса, а не на желаемое или взятое из учебников) саморазвития пролетариата посредством искусства (когда класс в себе превращается в класс для себя) в пользу насильственного приведения к идентичности, идеалу. Критикует за отказ от социологической научной методологии в пользу возвращения к «качественным» отвлеченным категориям эстетики XIX века. Наконец, критикует за отказ от процессуального эксперимента в пользу раз и навсегда данного сверху ответа.
+++
По задумке, у проекта «Педагогическая поэма» должна была быть финальная выставка — интервенция в экспозицию музея. Но времена были тогда не очень спокойными. Мы начали работу в 2011-м и рассматривали проект как аналитическую инициативу по переосмыслению музейного показа и возможностей реактуализации его в качестве инструмента для обсуждения политической истории, а заканчивали в 2012-м — когда политический контекст времени существенно добавил нашей инициативе остроты. В общем, в экспозицию нас не пустили, по ходу обвинив в энтризме и «апроприации Музея Революции для пропаганды революции».
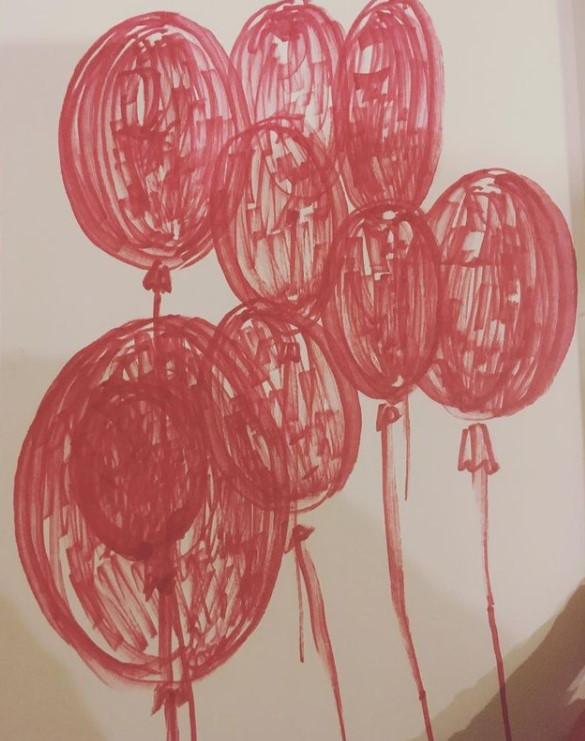
Ультиматум руководства был такой: или мы сворачиваем проект вообще, или проводим выставку в неэкспозиционном пространстве. Посоветовавшись со всеми участниками, мы выбрали компромиссный второй вариант при котором сохранялась бы возможность продолжать взаимодействие с государственными нехудожественным музеями в будущем. Саша была одной из немногих, кто не только сопротивлялся этому решению, но и в целом критиковал возможность в данной ситуации продолжать работу в режиме «выставки» — в режиме производства продукта, отличного от нашей общей проектной логики, от организации образовательных ситуаций. Мы часами спорили по этому поводу, не придя в итоге к компромиссу. Как бы там ни было, Саша участвовала в создании финальной экспозиции: булыжники с мостовой у метро «Баррикадная», которые она спасла во время ремонта дороги, находятся в коллекции фонда V–A–C. Но ее позиция осталась неизменной: политизированное искусство должно искать новые способы существования вне выставочного пространства, вне логики капиталистического производства зрелища, обращаясь к осмыслению наследия исторического авангарда (особенно если речь идет о ситуации политической мобилизации).
Надо сказать, моя позиция в тот период не слишком отличалась. Сознательное, социально ответственное искусство должно быть готово к смерти в политическом событии. Без смерти эстетических амбиций сложно надеяться на политические достижения. Ища возможности откликнуться на ситуацию в стране, мы провели несколько встреч «Педагогической поэмы» в московском лагере «Оккупай Абай», а потом вместе с активистами из Российского социалистического движения включились в организацию уличной активности. Надо ли говорить, что Саша была очень сильно вовлечена в происходящее, став одной из главных художниц-оформительнец протеста левых сил вместе с Максимом Спиваковым и другими коллегами, близкими к сообществу «Педагогической поэмы». Идеи Новоженовой касательно свободного политизированного творчества воплощались здесь в полной мере.
Помимо прочего мы вместе делали мастерскую протестного плаката — сначала у Саши Повзнера, а затем и на улице во время митингов. В рамках мастерской, помимо визуального оформления плакатов и листовок, шла активная работа со словом. Саша придумала, например, знаковый лозунг «Краснеть не стыдно». Для одного из митингов мы разместили этот лозунг на белом флаге, на который нашили красные буквы из ткани. Этот флаг, как и многие другие материалы, связанные с Сашиным протестным творчеством, хранился у меня в мастерской, пока несколько лет назад я не отдал все в архив «Гаража». При этом стоит отметить, что ни тогда, ни впоследствии Новоженова так и не вступила официально в
+++
В анализе художественной ситуации нашего времени Новоженова стремилась развивать интуиции формсоцовцев. Программные тексты «Класс-для-себя (тезисы о социологии культурного производства и потребления)» и «Множество/тревога/изобретение: когда труд становится неотличим от речи» посвящены анализу положения дел в культурном производстве 2010-х. Методологически они опираются на теорию итальянского марксиста Паоло Вирно, во многих аспектах независимо развивающего интуиции марксистских социологов 1920-х. В теории Новоженовой выделяется два ключевых аспекта. Первый — это замена социальной формы организации. Вместо «массы» и «народа», характерных для конвейерного производства эпохи модернизма, — «множество» частично включенных в кооперацию индивидуальностей, формы, характерной для постфордизма, постмодернизма. Второй — переосмысление перформативности, коммуникативности, аффективности в качестве средств производства в условиях современного капитализма. Это позволяет анализировать современные формы труда, указывая на тенденцию их сближения с творческим трудом, трудом художника, когда от наемных работников (вне зависимости от специфики) начинают требовать артистичности, виртуозности, креативности. Так то, что ранее считалось частью проявлений надстройки или же незначимым сопровождением трудовой деятельности, теперь рефлексируется как ключевая характеристика (или по крайней мере одна из основных тенденций) производственного базиса. Читаем у Новоженовой:
Процесс говорения становится процессом труда, из чего мы можем заключить, что художник (интеллектуал, писатель, историк) — это уже не идеолог класса, как сказал бы какой-нибудь старый ортодокс, а
Уже по терминологии видно, что автор сопоставляет выводы Вирно с наработками марксистской социологии 1920-х и производственного авангарда, радикализуя их. Через анализ серии самоорганизованных групповых проектов (выступлений «Скретч-оркестра», спектакля «Репетиция оркестра» Театра на Таганке и ряда проектов студентов Школы Родченко) Новоженова показывает, что и в современных условиях можно создать «произведение без произведения», которое при этом в лучших традициях производственного авангарда будет лишено «промежуточных» чисто художественных звеньев вроде «образа» или «метафоры», характерных для репрезентативного искусства. Более того, такие «произведения без произведений» могут, являясь следствием важных для современности особенностей общественного производства, успешно артикулировать значимую социальную специфику вроде тревожности или специфичной для множества социальной «полувключенности».
Для того чтобы «произведение без произведения» состоялось в качестве социальной ситуации, необходимо изобретение (оно же выступает как связующее звено коллектива в отсутствие идентичности):
Изобретение — некий инструмент, придумка, материальный объект (как в случае со
Важно, что изобретение у Новоженовой понимается в «слабом» ключе — прежде всего как инструмент, включающий субъекта в социальную организацию, но не имеющей ценности за ее пределами. Так понятое изобретение противопоставляется эстетически сильному, значимому (и направленному в конечном счете «на производство в существующей системе искусства прибавочной стоимости через художественную уникальность») понятию изобретения у Розалинд Краусс, которая под ним понимала чисто художественную конструкцию (например, изобретение-медиум Эда Рушея, которое «складывается из дорог и заправок, а также особого понимания пространства холста»). Трактовка Краусс пришла на смену медиум-специфичным изобретениям послевоенного американского авангарда. Добавим, что у конструктивистов термин «изобретение» тоже был в ходу (в частности, при обсуждении специфики «Музея живописной культуры» проговаривалось, что он не должен быть музеем изобретений, так как изобретение еще не есть готовая вещь, для которой важно мастерство, профессионализм и т.д. — см. подробнее в каталоге выставки ГТГ «Список №1»), и понимался он ближе к интерпретации Краусс, что указывает на радикализацию социальной ориентации производственного авангарда в построениях Новоженовой.
Но изобретение актуально не только для самоорганизованных проектов. В ситуациях, когда художник вступает во взаимодействие с институциональной системой искусства, для изобретения тоже есть место. В данном случае изобретение, по Новоженовой, должно быть направлено на выявление базовой прекарности и социальной нестабильности актуального производства — тревожности и лишь частичной включенности. Лучше всего это может быть осуществлено посредством эвристического отказа, тавтологии, своего рода художественного отзеркаливания, которое возвращает институции ее запрос и тем самым рефлексирует ситуацию художественного высказывания внутри специфической констелляции общественного производства. В отличие от тавтологичности концептуализма или искусства институциональной критики, акцент делается не на автономистских амбициях художников, а прежде всего на их особом положении в качестве политических субъектов в социальной структуре множества.
+++
После неудачи протестного движения мы с Сашей чаще виделись за пластмассовой чашкой кофе из автомата в московских архивах, чем на выставках или митингах. Я работал над монографией по авангардной музеологии, а Саша исследовала материалы по социологическому повороту 1920–1930-х. Она еще один раз помогла мне с подборкой текстовых материалов — для инсталляции «Булыжник — оружие пролетариата». Больше ничего сделать вместе мы не успели.
Последний раз мы виделись накануне ее отъезда в США. Так получилось, что мы встречались на Казанском вокзале перед моим поездом в Воронеж. Саша была переполнена планами. Было ощущение, что это то, чего она давно хотела (разговоры про переезд и возможность учиться/развиваться за рубежом я слышал от нее много раз и прежде). Мы обсуждали ее трогательное увлечение баскетболом. Она играла во дворах, часто с незнакомыми людьми в качестве своеобразного опыта социализации. Казалось, что с этой точки зрения Чикаго был идеальным городом для переезда и уличных тренировок. Я тоже в юности увлекался баскетболом и после нашего разговора купил себе мяч, держа в голове наш возможный матч в будущем.
После мы виделись только во сне — в марте 2018-го. Деталей не сохранилось, я запомнил только два момента: 1) она постоянно раздваивалась на себя и свою дочь; 2) она написала блистательную статью для американского October. В конце сна я решил обязательно запомнить увиденное и сообщить Саше. Так и вышло. Она отшутилась: мол, жаль, что это был лишь сон. Теперь Саши нет. И я больше не знаю, получится ли у меня сообщить ей, когда ее блистательная статья вновь выйдет в американском October. А если получится, не знаю, когда это случится.
+++
Именно такой — можно сказать, изобретательский или (если использовать еще одно характерное для современности слово) хакерский — подход становится императивом Новоженовой в ее интерпретации искусства с марксистских позиций в современных условиях. Его можно увидеть не только в ее работах, посвященных анализу коллективности, но и в интерпретациях реализма или в текстах о мутации художественных медиа, а помимо того — в творчестве Новоженовой как художника, дизайнера и в ее отношениях с политическими организациями. В этом она была частью глобальной сети критического искусства и освободительной политики начала XXI века, собственно того самого «множества», следовавшего логике, обозначенной Паоло Вирно и его коллегами по итальянскому постопераизму.

Но уже к середине 2010-х стало ясно, что в политическом отношении на данном историческом этапе «множество» не оправдывает возложенных на него высоких надежд. Ни арабская весна, ни «Оккупируй Уолл-Стрит» (в
Да, возможно достижений 2000–2010-х было достаточно для выявления специфичности нового претендента на статус субъекта истории и даже на артикуляцию и снятие его социальной тревожности, но без реального подтверждения притязаний на политическую свободу новая версия марксистского искусства без искусства оказалась в нарциссическом тупике. И здесь, следуя логике Новоженовой, художники должны были бы (пере)изобрести изобретение, отказаться от отказа — и это, возможно, привело бы к поиску новой, более сильной социальной организации или же к окончательному исходу из мира искусства или даже современного общественного производства.
Обычно после поражения освободительной революции приходит (альт-райт)фашизм и (нео)реакция. И то, и другое обширно представлено в нынешней политической ситуации и получило заметное место в художественном производстве. Прошлый век смог победить нацизм, но так и не достроил коммунизм на лету. И победа, и строительство стоили миллионов жизней, миллионов искалеченных судеб. Среди них были те, кто, как и Саша Новоженова, искал возможность для использования освободительной методологии в постоянно изменяющихся и не самых благоприятных условиях капиталистического производства. Те, кто, убегая от буйства реакционеров, как и она, перебрались за океан, чтобы там предложить новую пессимистичную версию марксистской эстетики (поворот к осмыслению ошибки, провала, неудачи мы находим в поздних, чикагских текстах Новоженовой, написанных уже после конструкторских рассуждений о формсоцовцах и изобретателях). Были и те, кто не смог принять и пережить поражения. Но можно не сомневаться, что их дело, их «строительство коммунизма на лету» будет продолжено.
[1] См. по-русски здесь: http://redmuseum.church/robert-bird-modeling-in-ussr. Полное название «Как строить коммунизм на лету: труд, энергия и модель космоса в советском кинематографе»
[2] См.: http://www.intelros.ru/pdf/sotciologia_vlasti/07_Novog.pdf
[3] См.: https://www.colta.ru/articles/art/4587-mnozhestvo-trevoga-izobretenie).
[4] Там же.
