Пастернак и капуста
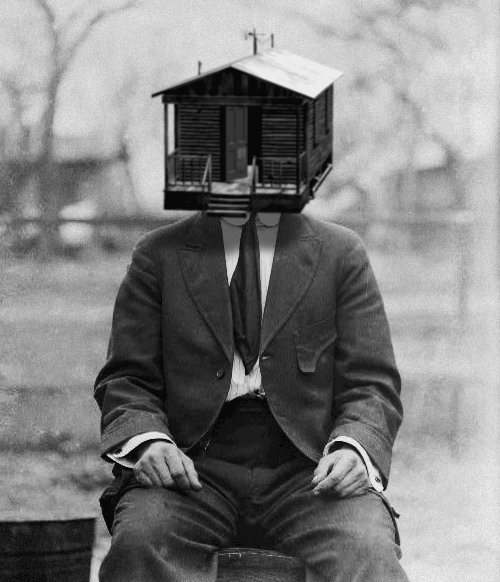
«Так вот он — тот осенний пейзаж»
Ахматова
В Переделкино за каждым клёном мерещится Комарово. Узкая асфальтированная тропка вдоль железно-дорожных путей (две собаки встретятся — не разойдутся) спадает к долу, кажется, вот-вот и море, но нет: всего лишь речка, обмелевшая до ручья. Несоразмерный тяжёлый мост с неизящной решёткой. Сквозь ажурную листву проступают купола собора. Дальние маковки часовни и весь пейзаж говорит о близости монастыря и снова нет. Не обитель киновиальная, но подворье патриаршие, да статуи святителей цвета тёмного шоколада, в придачу.
Собор выстроен недавно. Есть что-то «индусистое» в этом направлении русского зодчества. Две руки мало. Шесть давай! И весь облик таков, будто возводил не архитектор, но кондитер. Вход пошла сахарная помадка, безе, глазурь и посыпки всех цветов. Так, что уж и кресты надо было заказать тульскому пряничному. Пусть бы птицы небесные лакомились. Тут же неподалеку ресторан «Солнечный» арендовал помещения у «Дома писателей». Банкеты, свадьбы, юбилеи и, разумеется, мощная десертная карта. Рекламный стенд: торты такие-сякие и все как один похожи на
Одесную некрополь. И снова мерещится Комарово за каждым клёном. Неширокое Боровское шоссе извивами напоминает Приморское. Сосны корабельные окончательно сбивают с толку.
Новопеределкино
Неизбежная деталь современной загородной жизни — ново-поселения. Коттеджные китежи, обнесенные крепостными стенами. Застава со шлагбаумом, скучающий дуболом и лежачий полицейский на въезде. От чего терема эти, выглядывающие
Источник Иисуса Христа
Улочка, как продолжение Сетунь-ручья и два берега: высокий правый — стена та самая крепостная и низкий левый: старые дачи, чубарые березки, эти долматинцы русского леса, и
Краснокирпичная постройка неизвестного назначения с указателем: «Проход к роднику». Два пролета деревянной лестницы. Два поклонных креста. Табличка: «Источник Господа Нашаго Иисуса Христа». Снизу доносится громкая плохая музыка. Вроде Джона Бон Джови, или кого-то из тех парней 80-х в сиреневых лосинах с тембром павиана, готового к спариванию.
Человек в мотоциклетном шлеме набирает воду в голубые бутыли
— Мы эту воду в лаборатории проверяли. Нормальная. Пить можно.
Вот так вот. На Бога надейся, но анализ сдай и химсостав выясни.
Мотоциклист-водоноша ловко, несколько по-обезьяньи, взбирается по лестнице и грузит бутыли на маленький мотороллер.
— Главное, чтоб силенок хватило у него, — говорит напоследок. Вставляет ключ в зажигание. Мотороллер ворчит и трогается, увозя седока с поклажей. Сзади на флагштоке затрепетал флажок, то ли Конфедерации, то ли Новороссии. Удачного дня. Удачного дня. Have a nice day. Have a nica day.
Пастернак и Капуста
Нельзя так просто зайти на садовый участок Бориса Леонидовича Пастернака. Надо потоптаться вокруг. Пройтись туда, сюда. Почитать вывески на зелёной калитке. Потрогать калитку. И вот так, постепенно затечь вовнутрь. Надо уметь войти. Это очень важно. Большинство людей совершенно не умеют войти куда-либо. Не говоря уж о «правильно занять место», расположиться в пространстве так, чтобы привлечь к себе любовь его и услышать, если не будущего зов, то хотя бы тишину настоящего.
Один слишком долго топчется в передней эдаким Лариосиком, с валенок течет, со лба течет, а он все стоит и стоит. Да, сними уже шубу и войди. Другой вбегает нервной лошадью, задевая вазы и бра, галопирует в гостиную и от него потом, весь вечер опасливо отодвигают фарфор и хрусталь. Иной входит и сразу с порога как бы присваивает обстановку, дескать, вот он я, «не ждал Ганька, подлец?» Сейчас я посмотрю, как вы тут все устроили. Девушки любят прошмыгнуть мышью, забиться в угол и не дышать. Немудрено, что хозяева могут не заметить их, наступить на выпавший из угла хвостик или придавить лапку, сдвигая диван поближе к окну, потому как
Первое, что встречает вас и чего нельзя забыть: упругие черепа поздней капусты на аккуратных рубатках. Когда всё вокруг грустит и опадает, и ленивая муха совершает свой прощальный полет вокруг обеденного стола; в той элегической атмосфере всеобщего истончения и увядания, капуста являет неожиданную крепость и самоварное веселие духа. Смотри на меня! Запасай. Шинкуй. Квась. Грызи. Заворачивая мясо в листья мои. Хрусти листьями моими. Аз есьм крестоцветие, сада сего царица и омега сезона огородного. Мною затворяхуся житницы. Глянь же! Всё как есть отплодоносило и оголилось. Варенья наварены, огурцы закатаны, настойки наставлены, и только я смотрю сизым навыкате оком всевидящим на тебя, на небо на все бытие осенние и говорю вам: не унывайте! Радуйтесь. Всегда радуйтесь, ибо вот я — капуста, тебе человек в утешение. Всего-то и осталось зелёного в мире: я, забор сей, да электричка на Малоярославец.
Сидя на скамеечке перед домом Б. Л., смиренно рассудил о невежестве. Многие слывут знатоками душ человеческих, а едва понимают в капусте. Более сотни разновидностей, в том числе «романеско», число соцветий которой соответствует числу Фобоначчи. Или вот дерево, листики трепещут, а я сомневаюсь, то есть сказать правду, не знаю: осина ли? липа ли? Пишем о людях, а надо бы идти в лес и вникать в деревья. Вместо этого идем в магазин и покупаем свиную лопатку, думая, что знаем свинью и лопатку. Свинью же видели два раза в жизни и то мельком, а лопатки так и вовсе не видели, и так совершенно во всем, что не возьми. Утешимся Блезом Паскалем, писавшим: лучше знать обо все понемножку, чем только об одном хорошо, а обо всем прочем ни черта. Вот знаю же я теперь эту конкретно капусту. Знаю. А сосну эту корабельную знаю ли? Конечно. О соснах по крайней мере, нужно знать, что бывают двух видов: те, что растут сообща, ровно, стрельчато, как пальмы и те, что растут там, где кажется расти невозможно, и потому растут они вкривь, вкось, осьминожно оплетая гранитные скалы смолистыми щупальцами и раскидывая ветви тоже весьма осьминожно. Если у Ахматовой на восточной стороне проступало веткой письмо от Марины, так и эта вот сосна чуть согбенная и
Провансолитен
Пригородные поезда, попросту «электрички», противоположны метрополитену. «Провансолитен», такой. Троек на Руси давно нет. Лошади освобождены от тягла. Народ садится в зелёные нечистые вагоны, не чета чистым и светлым вагонам метро, и едет, едет, едет в далёкие края. Мелькают убогие платформы, не идущие ни в какое сравнение с дворцовым благолепием подземных вестибюлей. Метро — гордость, витрина, стратегический объект и убежище на случай ядерной бомбардировки. Электрички — поджарые гончие (не зря автостопщики называют их «собаками»), запряженные в стальные упряжки, тянущие гремучие, плохо отапливаемых в холодное время, а летом удушающие жаркие, вагоны.
Здесь продолжают курить в тамбуре, несмотря на табу, и мочиться в межвагонные расщелины, на что, кстати, никаких официальных запретов, вроде как, нет. Пассажиры сидят как бы в отдельных кабинетах, мрачными визави. За окнами коричневатыми от копоти и грязи, плывет замутненный, всегда немного пасмурный пейзаж. Станции объявляют так, что невозможно расслышать. Сквозь треск и шипение прорывается голос толи Вертинского, толи Морфесси, толи малоизвестной теперь венгерской певицы Гестер Этельки, что-то, словом, из эпохи патефонов, графитовых пластинок на 33 оборота и опасных бритв на костяной рукоятке.
Электрички одинаковы повсюду. Они остались неизменными, как тюремные камеры, церковные притворы, школьные рекреации. Старые псы железных дорог с мертвой хваткой. Это не фигура речи. Двери вагонов в метро закрываются/открываются силой воздуха. Можно попридержать, чтоб влезть. Не стоит повторять тоже с дверями электричек. Там сила не воздуха, а
В электричке можно спать, растянувшись на скамье или свернувшись калачиком в тамбуре (смотря по лицу). Ходят бесконечные торговцы ерундой с надорванными клетчатыми сумками, слепые аккордеонисты, старухи с вязаньем, газетчики, мороженщики и проч. Воздух прокуренный, горьковатый, подрагивающий. На окнах видны человеческие отпечатки (рук, щёк, носов, лбов), как на тех стеклах, что оберегают святые образа от богомольных лобызаний и, которые протирают время от времени приходские бабушки-свечницы, для чего заведена у них специальная тряпочка.
Чудь Келломяжская
Апостол Андрей, согласно преданию, проходил эти диковатые места. Шёл морем, конечно. А топями, буреломами, торфяниками, болотами погибельными, огибая черные водоёмы, не шел. А шёл Андрей мелеющим северным морем до невского устья в Ладогу и там до самого Беломорья. Шёл Апостол под парусом, закутавшись в шерстяную власяницу, и накинув поверх что-то капюшенчатое, типа зюйдвестки. А к взморью,
Келломяки — «колокольная горка». От колокола на холме, созывавшим рабочих, строителей железной дороги, к обеду. Допускаю, что у колокола была и другая задача: разгонять звоном нечисть, предупреждая появление человека. Всем змеям забиться по колоду! Всем чертям опуститься на дно омута! Всем наядам поджать хвосты. Сидеть и не высовываться. Лосиные болота оставались нетронутыми вплоть до начала XX века. Пришли люди. Проложили дорогу. Стали строить дачи. Чудь затаилась.
продолжение следует со всеми остановками…
