Архитектура послевоенного мира

Появление этого текста может показаться неуместным или даже оскорбительным сегодня, когда все наши мысли — о том, как прекратить войну. Как и многие, или все, кого я знаю лично, я переживаю ужас, вину, отвращение. И может быть, из терапевтических побуждений, я обратился к теме более узкой. Я прошу прощения у тех, кто будет этим задет.
И в это же время, тема совмещения гражданской и профессиональной позиций в этих страшных обстоятельствах уже наметилась в открытых письмах, написанных от имени представителей разных профессий, в том числе от имени архитекторов; в том, как реагируют — или не реагируют — культурные институции и отдельные художники, кураторы. Но пока, насколько мне известно (я могу ошибаться), не архитекторы — об открытом письме архитекторов и градостроителей, которое во многом и натолкнуло меня на идеи этого текста, я пишу ближе к его концу.
Почти ровно десять лет назад, в 2012 году, мы готовили в Московской архитектурной школе МАРШ курс под названием «Профессиональная коммуникация». Мы представили себе «идеального» с этой точки зрения архитектора, описали его навыки и знания. В одной из ячеек таблицы мы записали: следит за новостями, следит за сообществом, разбирается в контекстах — политическом, социальном, этическом.
Мы переделывали курс почти каждый год, и в табличке есть листы с названиями «старый курс», «другой старый курс», «вторая версия курса», «курс для такого-то года» и так далее. Менялись мы, менялся мир. Но некоторые вещи, в том числе, проблемы этики и отношения архитектуры с политикой, нам было трудно объяснить, и мы все время искали новый способ.
Политическая функция интеллектуала
Среди прочего, мы опирались на текст интервью Мишеля Фуко «Политическая функция интеллектуала». Он начинается с обращения к интеллектуалу как фигуре «всеобщей совести»:
«В течение долгого времени так называемый “левый” интеллектуал брал слово и воображал, что право говорить за ним признают потому, что видят в нем учителя истины и справедливости. Его слушали, или он притязал на то, что его должны слушать как лицо, представляющее всеобщее. Быть интеллектуалом означало, в частности, быть всеобщей совестью».
Фуко увязывает эту всеобщность с ролью интеллектуала как голоса пролетариата (отсюда слово «левый»): он не может говорить сам за себя, так как не имеет достаточных ресурсов для того, чтобы представлять себя в политическом пространстве.
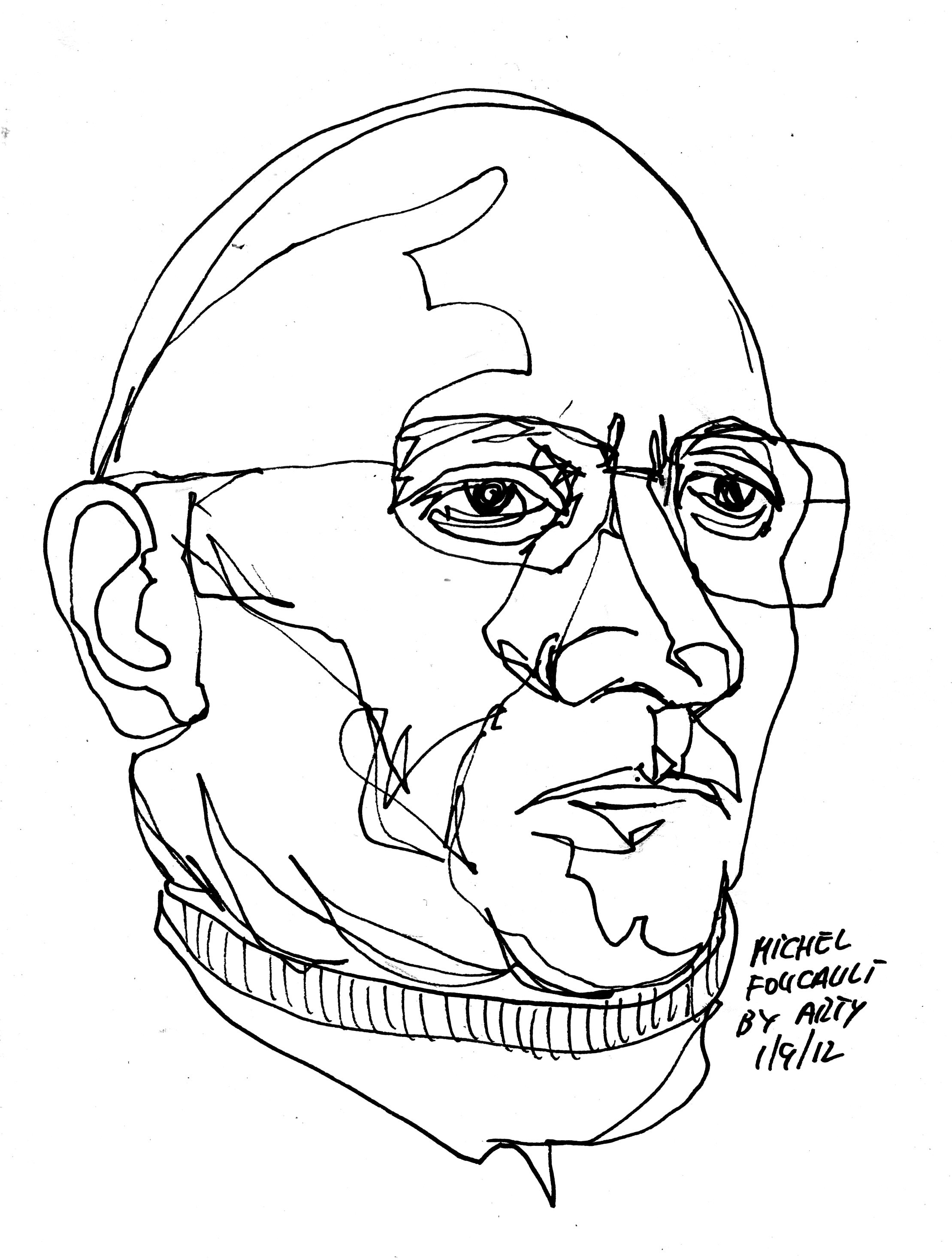
Но во второй половине XX века (беседа состоялась в 1970-х годах) уже есть сильные левые партии, базовые права рабочих защищены, и так далее. С другой стороны, интеллектуалы профессионализировались достаточно глубоко: «Интеллектуалы привыкли к работе не внутри “всеобщего”, “образцового”, “справедливого и истинного для всех”, а в определённых отраслях, в конкретных точках, где сосредоточены условия их профессиональных занятий либо условия их жизни (квартира, больница, приют, лаборатория, университет, семейные и половые связи)» — добавим архитектурное бюро.
Фуко отмечает, что одновременно исчезает писательство «как сакрализующий признак интеллектуала». То есть, быть политически включенным уже не значит непременно быть публицистом. Вместо «всеобщего», «универсального» интеллектуала появляется «интеллектуал-специалист».
Фуко дальше обращается к теме отношений власти и истины. Под истиной он имеет в виду набор правил, которые помогают нам различать истинное и ложное, набор правил, который является одновременно и произведением, и инструментом власти. «Эффективность», «комфорт», «современность», «гений места», или «заказчик», «государство», «жители», «пользователи», и так далее, до бесконечности — это конструкты, а не реально существующие вещи. Конкретное содержание этих понятий зависит от политического, в самом широком смысле этого слова, режима.
Политическая функция интеллектуала, говорит Фуко, «заключается в том, чтобы знать, возможно ли установление новой политики истины», то есть, могут ли быть другими эти конструкты и отношения между ними. Политическая функция — это критика особого рода, или, как еще говорят Фуко и Делез в беседе «Интеллектуалы и власть», соотнесение теории и практики: «практика оказывается совокупностью переходов от одного пункта теории к другому, а теория — переходом от одной практики к другой».
Надо заметить, что на публике архитекторы легко соблазняются ролью всеобщей совести, когда речь идет о том, что представляется им сферой их профессиональных компетенций, но позволяет говорить обо всем и от имени всех. Но внимание к нюансам «политики истины» — это требует усилий.
Утопия как критический метод
Здесь я хочу перейти к теме утопии. Обыкновенно архитектурными утопиями называют большие идеи и проекты, амбициозные, но нереализуемые в силу своего масштаба и сложности. К ним также принято относиться с опаской: в процессе реализации утопии неизбежны жертвы, а результат наверняка превратится в свою противоположность — антиутопию.
Допустим, так. Но не только. Немецкий философ Эрнст Блох считал, что утопия — это движение от осознания факта существования (ergo sum) к его пониманию. Это движение направляется надеждой, что в существовании
Карл Маннгейм в «Идеологии и утопии» говорит об утопии, как о такой версии реальности, которая ей угрожает:
«Утопичной подобная не соответствующая действительности ориентация становилась лишь тогда, когда она действовала в том направлении, которое должно было привести к уничтожению существующей “структуры бытия”».
Этим утопия отличается от такой мечты, которая, напротив, поддерживает структуру бытия. Например, христианский рай или идея коммунистического общества будущего являются «не соответствующими действительности», но в конкретных ситуациях они поддерживали политический и социальный порядок, а не разрушают его. Идеология всегда оперирует образами такого рода, из прошлого или из будущего, и эти образы вполне приемлемы с точки зрения власти. Но утопия воспринимается как угроза такому порядку, и именно это заставило Томаса Мора облечь свои идеи об идеальном обществе в форму сказки, в которой все можно поставить под сомнение: события происходят в «не-месте», о котором рассказывает некто Гитлодей, имя которого переводится как «распространитель небылиц».
Я завершу этот философский экскурс Фредериком Джеймисоном и его рассуждением о том, что утопия — это метод (в статье Utopia as Method, or the Uses of the Future, 2011). Он обращает внимание на противоречие, которое мы чувствуем в утопиях. С одной стороны, утопия — это описание некоторого фантастического места или будущего. В этом качестве оно обладает логикой, замкнутой на себе, как любое произведение. Утопия Томаса Мора — описание путешествия и места. Архитектурная утопия — законченный проект некоторого здания или города.
С другой стороны, утопия выходит за эти границы, требует от нас более активной реакции. Блох говорил о том, что она обращается к экзистенциальной потребности, Маннгейм — что она угрожает статус кво. Джеймисон предлагает увидеть в них нечто общее с этой точки зрения, что он называет методом, «скалькулированной» операцией, направленной против политической апатии и пессимизма:
«The utopia, I argue, is not a representation but an operation calculated to disclose the limits of our own imagination of the future, the lines beyond which we do not seem able to go in imagining changes in our own society and world (except in the direction of dystopia and catastrophe). Is this then a failure of imagination, or is it simply a fundamental skepticism about the possibilities of change as such, no matter how attractive our visions of what it would be desirable to change into?»
Это замечание мне кажется очень важным. Что имеет в виду Фуко, когда говорит, что писательство перестало быть сакрализующим для позиции интеллектуала? Просто ли он отмечает факт распространения грамотности и роль масс-медиа? Но я хочу усмотреть в этом высказывании намек на другие медиумы, которые доступны интеллектуалу-специалисту: научная статья, публичная программа институции, выставка.
И архитектурный проект — но только такой, которой можно назвать утопическим (хотя бы отчасти), потому что он содержит в себе надежду, потенциал изменения структуры бытия, расширяет наше политическое воображение и освобождает от плена пессимизма и апатии.
Война есть продолжение архитектуры другими средствами
Прямо перед катастрофой внимание многих привлекла статья конфликтолога и социолога градостроительства Елены Черновой «Российский рентополис: почему победил человейник и что с этим делать?». Этот текст суммировал дискуссии о природе российской архитектуры, которые, наверное, идут уже лет десять, если не больше. Рентополис — это описание одновременно и всей российской экономики, которая существует на ренту от добычи полезных ископаемых, и рынка жилья, который становится и способом сохранения этой ренты, и источником другой ренты.
«В рентополисе находится не только верхушка власти и миллионеры — держатели рентных доходов, но и армия чиновников, силовиков, бюджетников — тех, кто получает пусть небольшую, но гарантированную зарплату. Они создают рынок труда для большого количества низкоквалифицированной рабочей силы. Постоянный приток новых жителей, стремящихся занять хоть какое-то место в пирамиде рентного перераспределения, создает потребность в уже упомянутых «местах входа мигрантов».
Так формируется пояс трущоб вокруг всех столиц стран с рентной экономикой», пишет Елена Чернова.
Можно ли расширить эту рамку до масштабов всей архитектуры, а не ограничивать ее только жильем? И благоустройство, и строительство инфраструктуры, и такие мероприятия, которые вызывают к жизни новую архитектуру, как Олимпиада или Чемпионат мира по футболу, и даже строительство новых культурных центров — это события, которые обязаны своим существованием ренте, и обеспечивают устойчивость «пирамиды рентного перераспределения».
Такая критика тоже не нова: мегасобытия отвлекают публику от проблем в экономике, благоустройство скрашивает существование тех, кто перестал (или даже не начинал) двигаться вверх по пирамиде, культурные центры — инструмент перераспределения ренты в пользу вечно недовольной интеллигенции, и так далее. (Здесь можно вспомнить о Карле Маннгейме и его мыслях по поводу идеологии).
Разумеется, все эти вещи могут обладать вполне ощутимой полезностью и архитектурными достоинствами в любых смыслах этого слова. И с некоторыми допущениями, но так можно описать архитектурный рынок не только в нашей стране, а может, и глобальный рынок. Это вечная дискуссия о первородном грехе архитектурной профессии, которая, якобы, не может не быть частью режима (политического и экономического), каким бы он не был, или не казался — справедливым или нет.
Однако роль войны, которую сейчас ведет Россия, в деле сохранения режима кажется тоже вполне очевидной, даже если ее организаторы и просчитались насчет эффектов. Можно долго описывать специальные обстоятельства, но общая закономерность, которая приводит диктатуры к такого рода авантюрам, продолжающим внутреннюю и внешнюю политику другими средствами, хорошо описана уже даже и в кино.
Выходит, что российская архитектура и российская агрессия в Украине имеют общую природу, у них общая порождающая причина и много сходных задач. Война разрушает, а архитектура создает, и это важное различие, которое необходимо зафиксировать. Но не останавливаться на этом, и не бояться неприятных открытий, которые может принести более глубокий анализ.
Vers une architecture
Катастрофа, свидетелями, участниками и виновниками (по мнению многих и моему тоже) которой мы стали, в ближайшее время или несколько позже, продолжится крахом политической и экономической системы — это кажется совершенно неизбежным. Влияние этих событий на жизнь архитекторов легко предсказать: уход государства как заказчика из общественных проектов, падение рынка жилья, который сейчас тоже поддерживается во многом государством, конец коммерческого девелопмента.
Политика истины или положение вещей, которые формировались на протяжении последних двух или трех десятилетий, скоро перестанут существовать — я в этом убежден. На момент написания этого текста ни одна профессиональная ассоциация или институция, которая имеет отношение к архитектуре, не высказала своего отношения к войне, продолжая принадлежать этому положению вещей. Не слышно и комментариев от архитекторов и градостроителей, которые занимают заметные посты.

Однако открытое письмо архитекторов и градостроителей России против военных действий в Украине подписали уже 5577 человек, и среди них есть и студенты, и лидеры профессионального сообщества, архитекторы из самых разных городов, из частных компаний и из госструктур, практики и исследователи. Я тоже подписал его, хотя и не считаю себя ни архитектором, ни градостроителем.
Выражение «открытое письмо» означает, что подписать его может любой, кто относит себя к профессиональной корпорации — значит, она есть. Но одновременно, открытость свидетельствует о том, что корпорация не имеет структуры и ясных границ. Фрагменты структуры можно увидеть в той роли, которую сыграли медиа — журнал «Проект Россия» и портал Archi.ru, а также, вероятно, телеграм-каналы и другие неформальные средства взаимодействия. Но обладая свойствами проводимости, они не обладают возможностями репрезентации сообщества. С такими инструментами сейчас туго, что показали попытки повлиять на содержание Закона об архитектурной деятельности.
Я далек от желания оформить архитекторов какой-то структурой — это, собственно, и не мое дело. Меня интересует другое. Союзы, законы, профессиональные медиа, лицензирование и прочее, что оформляет профессию, развивалось в Европе и Америке на протяжении XIX и XX веков. Дискуссии, которыми сопровождался этот процесс, демонстрируют, что речь шла не только об инструментах, не только о положении в обществе, но и о ценностях профессии. Иначе говоря, в этом процессе всегда было что-то от утопии, надежды.
Подписавших открытое письмо — больше пяти тысяч, а эта цифра сопоставима с количеством членов Союза архитекторов. Не все из подписавших — архитекторы в строгом смысле слова, и многие из них совсем не знают друг друга, и наверное, не близки друг другу ни в каком другом смысле, кроме самого важного сейчас — неприятия войны.
И
Возможно ли, что этот несчастный, катастрофический момент будет также и моментом, который вызовет у архитекторов желание осмыслить свою политическую роль (и ответственность) не только как граждан, но и как профессионалов?
Это, разумеется, утопия, но мне бы хотелось надеяться — особенно сейчас.
