Новая жизнь или Движение без опоры на Солнце
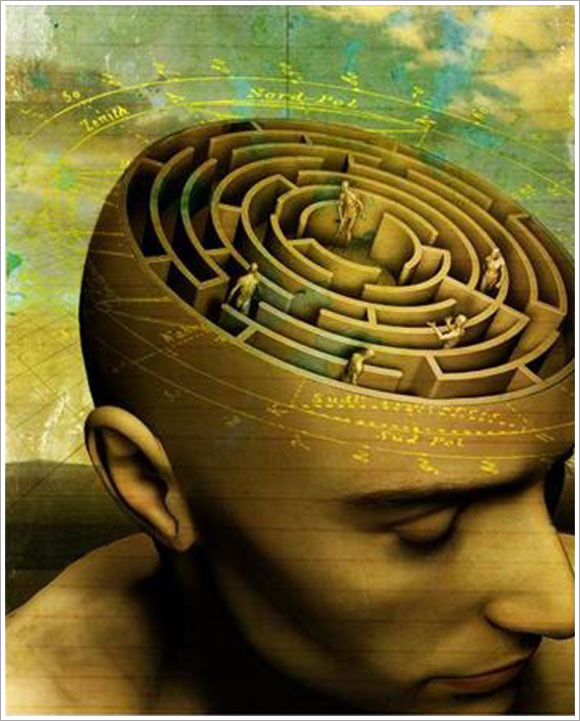
Если мы посмотрим в левую сторону — на развороте обложки окажется вся философия, всех эпох и времен, а книга, которую мы открываем, есть наша жизнь. Да, та самая аннотация к книге и есть тяжкий путь всей философии, жизнь наша, моя в том числе, труд, написанный нами (здесь я также подразумеваю «объективные» факторы: социум, культура, государство и в целом — продукты человеческой деятельности, которые сами себя производят и преобразовывают). Подобное не просто включается в нашу жизнь, но замыкает и размыкает контакт. Это связь себя самого с поколением предшественников, окружающей действительностью «установленной» и «устанавливающейся», связь со смутным чувством будущего: ответственности за сделанное перед судом времени, — если такое чувство возникает, мы можем говорить о начале всякой морали или видения идеального будущего (что я должен делать, чтобы подобное наступило и стало нашим). «Современный» как эпитет времени сейчас и для нас не совмещается с тем, что есть новое, потому как каждую секунду я обращаюсь уже не к становящемуся, а прошедшему и опора на новое недопустима. Если говорить о современности и философии, то будем откровенны — современная эпоха, культура и человечество, идущее как бы со временем вкупе не есть то новое, которое идет вразрез с устоявшимся[1; С. 34], тогда каждая эпоха идет вразрез со своим временем и впадает в таком случае в противоречие, и уже более не может именоваться современной.
Новая жизнь — это когда мы обрекаем на смерть и забвением старое? Мы с ним не соглашаемся и конституируем принципиально иные формы жизни? Или мы понимаем, как в дурацком повторении (все новое — давно забытое старое)? Современным, без преувеличения, достоин именоваться любой прошедший век, но так или иначе воспроизводящийся в нас и нами для нас, который вдыхает раз за разом веяние жизни забытой эпохи. Что взглянув на древнегреческих философов, что взглянув на период схоластики и патристики, что на каждый следующий, — он нам сообщает всегда веяние жизни и смерти, его упадок и разложение, рождение и рост, его зенит [Ibid; С. 34]. Итак, Платон и Аристотель могут равноценно встать с Фуко и Делезем, Эпиктет и Сенека с Гуссерлем и Адорно, здесь нет какой-либо категоризации, нет класса этим лицам, есть лишь одно допущение — они привносят в то самое «современное» — знание, его силу и необходимость. Можно пойти дальше: взять каждого деятеля мысли любой эпохи и поставить во главу угла (нашего предпочтения), и посчитать его двигателем жизни, — вот он perpetuum mobile поколения «сейчас, упущенного во времени», вот он двигатель, за которым не стоит бегать в далекие метафизические дебри. Мысль каждого из названных мною и подразумеваемых вами, двигает нами в пользу жизни, в ее обогащение, в копилку цивилизации. Так, вооружившись стратегией правильной мысли — логикой, мы строим воздушные замки современного человека, его технический мир, мир, доведенный до искусства, во всякий порядок жизни, — в его закономерность, в красоту его формы, что есть по выражению Альберта Великого resplendentia formae substantialis super partes materiae proportionatas(1).[2; С. 171]
Да, мы оформляем нашу жизнь, для ее простоты, понятности и последующей умопостигаемости. Мы моделируем, проектируем и приобщаем мысленный конструкт к жизни для нас. Мы пользуемся технологиями интеллектуального мира, технологиями разума: от зубной щетки и туалетной бумаги до
Мы можем говорить о том, что эпоха в разное время переживала себя по-разному, но это не так. В каждый последующий миг нашего существования мы переживаем все эпохальные моменты, заключенные в 4 простые формы: рождение, рост, упадок и смерть, и вновь переживая то же самое. Не успели мы родиться в конце XX века, как успели пережить все эти этапы, начиная со смерти(2). Наш век (XXI от Р.Х. — Примеч. автора) — есть время непрерывных кратковременных, сменяющихся друг за другом эпох: расцвет рыночных отношений требует кризиса, культурные основания нового человека терпят крах, утопая в «цивилизованном» мусоре, рабочий класс ищет место в сфере услуг, а интеллектуал изнывает от пресности жвачки мира, именующей себя знание. Знание теряет свою значимость, оно не указывает, оно информатизируется и упаковывается в удобоваримые массой человечества формы. Налет информативности так велик, что одного ножа для чистки будет маловато. Потому и философия мечется в пути преодоления пресности нашего времени (что удобно некоторым называть современностью), возвращаясь раз за разом в эпохи ушедшие (современные в моем понимании) для поиска решений предстоящим проблемам: назревает технический прогресс, пожалуйте экологический кризис, назревает инновационный прорыв, пожалуйте запланированное устаревание, рынок меняет лицо, ну пускай оденется в
Суть времени не меняющего лица, а надевающего маски можно выразить словами Хосе Ортеги-и-Гассета: «Вероятно, у нашего времени, по сравнению с предшествующим, философская судьба, поэтому нам нравится философствовать — для начала прислушиваться, когда в общественной атмосфере, подобно птице, промелькнет философское слово, внимать философу, как страннику, быть может принесшему свежие вести из запредельных стран»[3; С. 52]. Философ современности есть путник в пустыне, несущий живительную влагу умирающему на ее просторах. В век электронной литературы, изданий и журналов интернет-пространства нет ни одного человека, кто, так или иначе, не высказался бы в пользу философии, окрыляя свою мысль пресловутой экзистенциальной проблемой, либо же проблемой человеческого общества, стоящего у порога кризисов. Всех и каждого интересует его личная судьба, и потому он тянется своей немощной рукой к колодцу, к источнику мудрости, которая ввергает его в новый шок: как обращаться к тому, что не может помыслить своих предельных оснований, что теряется в закоулках определений и тщетно пытается разобраться «чем же она, милая,
И вот обыватель (в нашем разумении студент-философ-гуманитарий) доискивается, начинает вопрошать, на что Хайдеггер ему отвечает: «Метафизика как философствование, как наше собственное, как человеческое дело — как и куда прикажете ускользать от нас метафизике как философствованию, как нашему собственному, как человеческому делу, когда мы сами же люди и есть? Однако знаем ли мы, собственно, что такое мы сами? Что есть человек? Венец творения или глухой лабиринт, великое недоразумение и пропасть? Если мы так мало знаем о человеке, как может тогда наше существо не быть нам чужим? Как прикажете философии не тонуть во мраке этого существа?»[4; С. 330].
Он (обыватель — Примеч.автора) изнурен, он не знает куда деться, философия должна была стать его последним прибежищем в ликующем от агонии мира современности. И ему доступна лишь малая доля, — все лежит в области человеческого делания, становления, того, что ускользает от нас в каждый миг и не способно удержать свою форму, свое предельное состояние. Он унывает? Нет. В нем зажглась искорка оптимизма, он взглянул на широту мира, и представил себя широтой — он стал homo quadrates [2; С. 75]. Он стал миром для себя самого. И тут смыкается точка, которая в начале жизни разомкнулась — здесь его смерть и его величие(4).
Примечания:
(1) сияние субстанциональной формы, изливающееся на соразмерные части материи (лат.)
(2) Развал советского союза. — Примеч. автора.
(3) Здесь я подразумеваю развитие биометрических электронных документов и устаревающую чипизацию населения, и альтернативу им — ДНК-паспорт. — Примеч. автора.
(4) «Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем: так голова его есть только утроба сердца его, а сердце его влечет его к гибели.
Я люблю всех тех, кто являются тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человеком: молния приближается, возвещают они и гибнут, как провозвестники. Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта молния называется сверхчеловек». — Так говорил Заратустра / Фридрих Ницше. — Минск.: Харвест, 2005. — С. 10.
Литература:
1. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. — М.:
2. Эко У. Искусство и красота в средневековой философии. — М.: АСТ:CORPUS, 2014. — 352 с.
3. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? — М.: Наука, 1991. — 409 с.
4. Хайдеггер М. Время и бытие. — М.: Республика, 1993. — 447 с.
5. Вопрос о Сократе / Сумерки кумиров, или Как философствовать молотом / Фридрих Ницше. — М.:
6. Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру. / Фридрих Ницше. — Минск.: Харвест, 2005. — С. 501-511.
