К стратегическому примитивизму – Диалог между Эдуардо Вивейрушем де Кастру и Юком Хуэем
Аннотация: В данном диалоге Эдуардо Вивейруш де Кастру обсуждает с Юком Хуэем свою работу о индейском перспективизме и мультинатурализме; взаимосвязь между природой, культурой и техникой в его этнографических исследованиях; а также необходимость неантропоцентричного определения технологий. Он обсуждает навязчивый футуризм экологического кризиса и автоматизацию антропоцена, а также исследует “стратегический примитивизм” как инструмент выживания.
Ключевые слова: антропоцен, мультикультурализм, мультинатурализм, перспективизм, этнография, футуризм, нечеловеческое

оригинал: Eduardo Viveiros de Castro, Yuk Hui. For a Strategic Primitivism // Philosophy Today. Volume 65, Issue 2, Spring 2021
перевод: ольга кудрявцева
редактура: вера с., платó
иллюстрации: платó
Юк Хуэй: Ваша работа очень вдохновила меня, особенно понятие мультинатурализма, а также ваши усилия по избеганию релятивизма и конструктивизма. Я рассматриваю это как стратегию, направленную на то, чтобы подвергнуть сомнению и дестабилизировать категории, унаследованные нами от современной европейской мысли, которые были универсализированы с помощью модернизированной и стандартизированной системы образования. Вопрос категоризации и перевода кажется мне важнейшим и безотлагательным для повторного рассмотрения. Я полагаю, что антропологи работали над этой проблемой десятилетиями, и философам ещё предстоит у них поучиться. Западная философия в своей основе является стремлением к универсальному различными средствами. Она всегда находится в противоречии с другими системами категорий, и, чтобы оправдать собственное существование, она обязана решить эту проблему, сформулировав идею исторического развития духа, который, как вы отметили, был предшественником “культуры”. Это также отразилось на трудах философов, которые стали антропологами. Ваше понятие мультинатурализма привносит определенную ахроничность в этот дискурс. Также ваша последняя работа с Деборой Дановски «Концы света» бросает вызов христианскому монотеистическому времени, предполагаемому в тезисе Квентина Мейясу о контингентности. Я думаю, что это открытие играет большую роль в стоящей перед нами задаче переосмысления многих категорий и отношений между ними.
Эдуардо Вивейруш де Кастру: Я не уверен, что полностью понимаю вашу точку зрения — а именно, что понятие мультинатурализма привносит определенную ахроничность в Западный (постхристианский) философский дискурс. Во всяком случае, меня всегда удивляет практически единодушное согласие современных западных философов в отношении метафизического превосходства времени над пространством — превосходства, не освобожденного от веской антропоцентрической составляющей. Хотя влияние концепции времени в разных философиях различна (Кант, Гегель, Бергсон, Хайдеггер, Беньямин и т.д.), ассоциация пространственности с языческим, примитивным или архаичным “другим” предполагает одержимость темпоральностью как одним из самых глубоких и очевидных следов еврейского и христианского мессианизма в модерновом, конкретно в “постмодерновом”, философском дискурсе. Затянувшийся кризис идеи прогресса — или, точнее говоря, (темпоральное) несоответствие между очевидным провалом философской идеи и ее упорной стойкостью в геополитической практике (“глобализации”) — и текущая экологическая (пространственная) катастрофа означают, что время “времени” может вот-вот пройти, и что настоящее требует нового философского внимания к пространству, месту или, как вы это называете, локальности. Массовое вынужденное перемещение человеческих и нечеловеческих популяций
Ю.Х.: Действительно — поэтому мы позже вернемся к вопросу о месте, которое я предпочитаю называть локальностью, хотя на первый взгляд это может прозвучать реакционно. Относительно того, что вы сказали о глобализации, которую мы также можем назвать “технологической универсализацией”, я хотел бы начать с фундаментального вопроса, который уже некоторое время занимает меня и который, я думаю, вы можете помочь прояснить: какова роль технологии в вашей концепции “природы”? И где находится позиция технологии в перспективизме? Или — какова взаимосвязь между техникой и космосом в ваших этнографических исследованиях?
Э.В.К.: Глобализация как технологическая универсализация должна включать в себя универсализацию ”жизненных форм” (Lebensform) или “мировоззрений” (Weltbild), хотя, возможно, вы понимаете первое как движущую силу последнего или как синекдоху этих понятий, поэтому мое замечание было бы излишним. Относительно вашего вопроса: я не знаю можно ли сказать, наследую и защищаю ли я онтологический концепт «природы», поскольку занимаюсь антропологией. Как подразумевается в вашем следующем вопросе (на который я частично ответил здесь): понятия “перспективизм” и “мультинатурализм” были экспериментальными попытками перевести в философский лексикон определенные практико-когнитивные установки и
Таким образом, если в моей работе и есть концепция природы, то это мета-концепция, которая является частью этнографической теории о конкретных — конечно, не всех — онтологических предпосылках космопраксиса определенных — “вневременных” народов. По многим эпистемо-политическим причинам, я равняюсь на объект моей мета-концепции, тот космологический объект, который я включил в понятие “мультинатурализм”. Во-первых, потому, что это говорит об оригинальности и устойчивости той формы жизни, насильственное исключение которой было одним из фундаментальных условий авторитарного навязывания современной западной метафизики (или “разума”). Во-вторых, потому что это бросает вызов колониалистской космологии “мононатурализма” и связанной с ней лицемерной терпимости к “мультикультурализму”. В-третьих, потому что это одна из реальных и виртуальных альтернатив универсалистскому, монотеистическому и антропоцентрическому субстрату практически всей западной философии — рекурсивно “локальная” альтернатива. В дополнение к тому, что она локальна и гетерогенна по отношению к гомогенизирующей и гегемонизирующей глобализации, мультинатурализм предлагает “локализацию” или радикальное рассеивание космической агентности. Наконец, и это очень важно, потому что предполагает более адекватную космополитическую позицию — возможно, мы могли бы определить мою позицию здесь как “стратегический примитивизм” — к искусству жизни на поврежденной планете, как сказала бы Анна Цзин. Горизонт «мультинатурализма» с конкретными политическими последствиями — это и есть Антропоцен.
Я боюсь, что мне особо нечего сказать о взаимоотношениях между техникой и космосом в культурах индейцев. Это серьезный пробел в моей работе. Насколько я могу судить — в отличие от того, что касается народов, о которых я читал и писал, — у меня есть много оговорок по поводу идеи, которую я иногда наблюдаю в некоторых философско-антропологических дискурсах: технология будет диакритической чертой, которая отделяет (и возвышает) людей от других живых существ. Я не могу не задаваться вопросом: были бы мы здесь вовсе, если бы не “последнее прибежище трансцендентального гуманизма”, как сказал Леви-Стросс о философии истории. “Техника” тогда функционировала бы как синекдоха “культуры”, а та в свою очередь — как наследница человеческой души. Я не вижу причин приводить доводы в пользу фундаментального разрыва между человеческим видом и другими живыми существами с точки зрения техники — так сказать, полного различия между “технологией” и “этологией”. Конечно, можно говорить о человеческой технике, а затем о нечеловеческой технике; но необходимо менее антропоцентрическое определение технологии. (Здесь я чувствую себя близким к духу “Апологии Раймунда Себундского”, где Монтень отчитывает техническое высокомерие нашего вида, а также к идее Сэмюэля Батлера о Жизни и Привычке к технологиям как зачаточному инстинкту.) Здесь я расхожусь с прекрасной книгой Бруно Латура “Исследование способов существования”, где он предлагает “технологический способ существования" как явно нечто исключительное для людей.
Дарвиновская концепция эволюции, как мне кажется, точно определяет техническое измерение как общий атрибут жизни, возможно, даже ее отличительное свойство — но тогда мы должны быть готовы принять так называемую “искусственную” жизнь в лоно дарвиновской теории. Меня это вполне устраивает.
С другой стороны, как вы сказали, каждая техника — это космотехника. К чему бы я добавил, что каждая космология — это техника.
Я сказал, что мне нечего добавить о взаимоотношениях между техникой и космосом в моих этнографических исследованиях. Широко распространенной особенностью индейских мифологий о происхождении человеческой технологии (то, что Леви-Стросс назвал “переходом от природы к культуре”) является отсутствие акцента на понятиях изобретательства или креативности, высоко ценимых в современности. В этих мифологиях происхождение культурной техники (орудий, процессов, институтов и т.д.) канонически объясняется как заимствование, передача (насильственная или дружественная, путем кражи или обучения, в качестве трофея или подарка) прототипов этих орудий или процессов, таких как уже принадлежащие животным, духам или не-совсем-человеческим врагам. Техника не является имманентной человеку; она всегда приходит извне. Сущность культуры — это аккультурация, и в основе всех tekhnē (техник) лежит mētis, хитрость.
В той степени в которой апперцептивная форма многих видов (фактически, неопределенного числа видов существ) идентична апперцептивной форме человека, и в которой среда каждого вида «обустроена» в манере, аналогичной нашей, различные черты ландшафта, которые мы, люди (т.е. они, индейские народы) воспринимаем как «естественные», воспринимаются различными видами как культурные, артефактные — как в часто упоминаемом мной примере о ягуаре, воспринимающем кровь добычи как пиво, или в ботанической номенклатуре, определяющей «дикие» виды как сорта местных культур, выращиваемых духами или животными. Таким образом, то, что для одних является природой или сырым материалом, для других вполне может быть культурным и техническим артефактом.
Ю.Х.: На самом деле, я упоминал, что все космологии являются космотехникой. Просто небольшое отступление; мы снова можем захотеть поразмышлять об использовании философских категорий и словарей, которые мы «унаследовали» от западной философии для понимания не-европейской природы, например, phusis-dikē, tekhnē-mētis. Вы использовали термин “онтология”, и Филипп Дескола также говорит о четырех онтологиях: анимизме, тотемизме, аналогизме и натурализме. Термин «онтология» означает прежде всего первую философию, предметом изучения которой является бытие. Мне также было бы очень любопытно узнать, правомерно ли использовать термин «онтология», когда мы описываем индейский способ «бытия», — вопрос, косвенно спровоцированный Франсуа Жюльеном, который утверждал, что у китайцев нет онтологии. Жюльен был не первым, кто это предположил: например, Киотская школа, в частности Китаро Нисида, который утверждал, что в основе восточной философии лежит лишь идея небытия. Жюльен пошел дальше, предложив идею де-онтологизации.
Э.В.К.: Многие коллеги возражали против использования “гордого имени онтологии” в моем изложении индейских космологий, мифологий, идей (или любого другого термина, который считается более приемлемым социальным антропологическим истеблишментом — пожалуйста, обратите внимание, что все эти альтернативные слова такие же греческие и “философские”, как “онтология”). Я использую его почти в том же смысле, в каком физики говорят об онтологии физической теории, или специалисты по информатике говорят об онтологии области знаний. Это сокращение для “сущностей и процессов, которые считаются наличествующими в определенном языке-культуре-обществе”, или для “множества способов существования, официально признанных в определенном языке-культуре-обществе”. Я не думаю, что образ мышления индейцев уделяет большое внимание “трансценденталиям”, таким как Бытие. Я безусловно не использую понятие «онтология» в том смысле, в каком его использует Хайдеггер и не приписываю такой смысл народам, о которых я писал. К слову, то, как Дескола употребляет слово «онтология», также не совпадает с тем, как использую его я. Я уже объяснял, почему я пытался приспособить это слово к
И в качестве заключительного замечания по “онтологии”, позвольте мне напомнить, что книга, которую я опубликовал в 2009 году, называется «Каннибальские метафизики», а не «Каннибальские онтологии»[3].
Ю.Х.: Вы дважды говорили мне, один раз во время нашей встречи в Рио, а в другой раз по электронной почте, что вы не имели в виду, что мультинатурализм — это лучшее решение, а скорее то, что это другой способ формулировки и решения проблемы. Я полностью согласен с тем, что нет единственно возможного решения проблемы модернизации, с которой мы сегодня имеем дело. Моя гипотеза состояла в том, что для того, чтобы отойти от способа модернизации, который мы называем глобализацией, и который на самом деле является процессом универсализации конкретных эпистемологий и знаний, необходимо мыслить с точки зрения локальности. Вы верно заметили, что в таком случае “Техника” бы функционировала как синекдоха “культуры”, и сегодня это еще правдивее, чем в прошлом, и именно поэтому я настаиваю на прояснении вопроса о технологии, а также на том , что плюрализм природы подразумевает плюрализм техники. Особый вид технологии и рациональности превращает землю в искусственную землю, что является манифестацией монотехнологизма. Мнимая интеграция культурных и географических различий на самом деле скрывает процесс дезинтеграции, который Леви-Стросс мог бы назвать энтропологией (entropology), и который мы переживаем все более и более интенсивно в последние годы. Как, по вашему мнению, это открытие «природы» способствует новой политике антропоцена и «переговорам» с этой технологической силой?
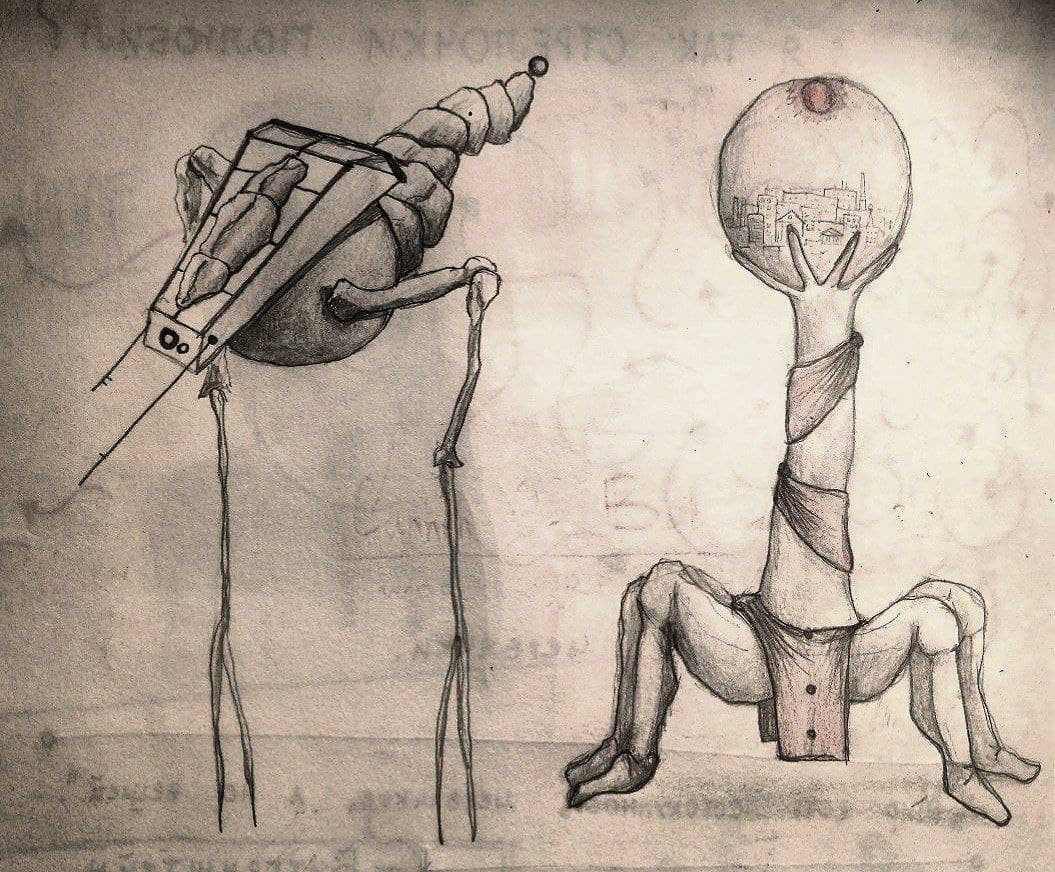
Э.В.К.: Предполагая, что появится такая материальная, политическая или метафизическая техника, что серьёзно изменит материальную (естественную) основу нынешнего технико-политического ассамбляжа, то есть предполагая, что мы действительно способны остановить ускоренную антропную энтропизацию Земли, эта техника не может не быть, по крайней мере частично, “возрождением” или, как вы говорите, “повторным открытием” природы — концепции природы, отношения (внутреннего к природе) между техникой и природой, и радикальным разъединением между концепциями свободы и бесконечности, другими словами, практическое и политическое признание того, что вид не бессмертен. Что нет никакого скрытого плана природы, созданного специально для нас, что нет прогрессивной реализации Духа и что “роскошный коммунизм” (luxury communism) не является вероятным счастливым концом для нынешнего капиталистического ада.
Мне нравится понятие “монотехнологизм”, которое раскрывает правду, стоящую за лицемерным понятием мультикультурализма. Поскольку технологию можно рассматривать как выражение фундаментальной культурной ориентации, совершенно ясно, что западный мононатурализм воспроизводится технологическим монокультурализмом (или наоборот). Итак, ваше предложение о множественной космотехнике кажется очень подходящим.
Питер Фрейз начинает свою недавнюю книгу “Четыре будущих” с другого варианта вступительного высказывания (Коммунистического) Манифеста: “Два призрака преследуют Землю в двадцать первом веке: призраки экологической катастрофы и автоматизации”[4]. Что интересует меня в этой формулировке больше, чем комбинаторика, которую Фрейз выводит из
Ю.Х.: Мне кажется, что оба призрака все еще во многом основаны на дихотомии между технологией и природой, и в некотором смысле они выражают неразрешенную диалектику. Первый предполагает непреодолимую случайность природы, а второй — необходимый триумф технологии над природой. Разве нас все еще не преследует “натурализм”, который, можно сказать, уже начался во времена афинской метафизики? Помимо предложенного вами стратегического примитивизма, можем ли мы подумать о других начинаниях, например, о перспективизме, который не основан на такой дихотомии? Когда я говорю о других начинаниях вместо возвращения к “индигенным онтологиям”, это потому, что мне кажется, что
«Космотехника-это тоже экополитика.»
Э.В.К.: “Индигенные онтологии” — это не то, что мы можем или должны вернуть, не только потому, что они не являются чем-то из архаичного, незапамятного прошлого, но потому что то, что вы называете глобальными режимами/условиями (conditions), не везде одинаково — монотехнологизм породил “неоднородный антропоцен”[5]. Различная, пространственно локализованная, экологически расположенная индигенная космотехника — индигенные способы жить в «реципрокной пресуппозиции» с амазонским биомом, например, где природа и культура онтологически неразличимы — это то, к чему мы обязаны «вернуться», учитывая абсурдное уничтожение тропических лесов “современным” агробизнесом. В конце концов, технология — это нечто большее, чем просто совокупность металла, ископаемых организмов и электромагнитного излучения.
Мой “стратегический примитивизм” — это риторическая апелляция к вневременной ценности перспективизма, “диалектический скачок на открытом воздухе истории”, позволяющий плыть против течения истории, как сказал Вальтер Беньямин.
Позвольте мне сказать — мимоходом — что мне интересно, насколько серьезно или косвенно современная философия техники способна воспринимать экологическую катастрофу как нечто уже произошедшее, в том смысле, что многие из происходящих изменений геобиофизических параметров планеты, вероятно, необратимы, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Речь идет не о контингентности природы, но о необходимости причинности. Единственной технологией, которая была бы способна радикально контролировать нынешнюю траекторию геобиохимических планетарных процессов, была бы машина времени. Развитие автоматизации (как в книге Фрейза), по-видимому, рассматривается скорее в связи с перспективой прекращения человеческого труда — либо как благо (роскошный коммунизм, сингулярность), либо как проклятие (безработица, экстерминизм и т. д.), нежели как нечто, что по-разному сдерживается экологической катастрофой и срочно требуется как способ борьбы с ней. Космотехника-это тоже экополитика.
Ю.Х.: Чтобы сформулировать наш вопрос более конкретно, что может быть довольно спекулятивно: вы однажды сравнили машину-животное Декарта с машиной Тьюринга и признали значительную разницу между ними, которую можно рассматривать как разницу между объектом и субъектом, телом и разумом, и что для индейцев Амазонки компьютер можно было бы признать субъектом, подобным животным. Я задаюсь вопросом, является ли этот новый статус машин конституирующим для будущего индейского перспективизма, или играет ли он вообще какую-либо роль в будущем индейской космологии?
Э.В.К.: Да, картезианская машина-животное, то есть животное как машина, является полной противоположностью машине Тьюринга, которая, в некотором смысле, является идеей машины как человека. Космотехнический треугольник “человек, животное, машина” кажется нестабильным, поскольку он имеет тенденцию распадаться на одну из трех дуальностей: либо {человек} против {животное + машина}, что является картезианским антропоцентризмом, либо {человек + животное} против {машины}, что было бы биоцентрической феноменологией, либо {человек + машина} против {животное}, что может быть связано с функционалистскими теориями разума и многими философиями ИИ. Сегодня я не так уверен, будут ли традиционные космологии индейцев автоматически рассматривать машины Тьюринга как наделённые интенцией субъекты на том же основании, что и многие “естественные” виды (некоторые из которых считаются неодушевленными в нашей собственной онтологической вульгате). Некоторые артефакты — горшки, каноэ, корзины и т. д. воспринимаются некоторыми индейскими мифологиями и шаманизмом как одушевленные и/или имеющие прозопоморфный прототип, человекоподобного духовного учителя и т. д., поэтому я не вижу непреодолимого препятствия для этих космологий в том, чтобы предоставить субъектность компьютерам или некоторым другим воплощенным устройствам искусственного интеллекта (воплощенным в смысле нашего подобия “middle-sized dry goods” (среднего размера сухих товаров)). Тем не менее, компьютеры не являются индигенными, и их распространение в современных обществах индейцев, скорее всего, сопровождается западными онтологическими предубеждениями, которые на данный момент не признают компьютеры как персон.
Ю.Х.: Действительно, использование современного вычислительного устройства немедленно подразумевает “онтологические конфликты”, и именно поэтому мне было любопытно, в какой степени другие “онтологии” могут участвовать в трансформации этих “онтологических предпосылок”, уже встроенных в технологии. Но давайте перейдем к вопросу политики или политической экономии, который вас также интересует, например к теме неизбежного негативного роста, о котором говорили вы с Деборой. Я знаю, что в последнее время вы возвращаетесь к некоторым чтениям о Марксе и его работам, и вас особенно заинтриговали произведения японского философа Кодзина Каратани. Каратани пытается предложить новую экономику через “перформативное” прочтение экономики дара Мосса, немного более реалистичное, чем общая экономика Жоржа Батая, поскольку у Каратани есть своя “этнография” анархистских сообществ, и это проходит почти через все его работы. Мне также любопытно узнать, может ли это быть связано с
Э.В.К.: Я только начал читать Каратани (2014) и пока не имею возможности высказать обоснованное мнение о его работе. Однако я был весьма заинтригован его решением сосредоточиться на “способах обмена”, а не на “способах производства” в его версии исторического материализма. Это приближает его к Моссу, Леви-Строссу, Салинзу, Стратерн и др. гораздо больше, чем традиционный антропологический марксизм (кстати, наряду с Делёзом и Гваттари) когда-либо мог мечтать. На самом деле стандартная марксистская критика Мосса и компании представляла собой именно ошибочную, нет, даже буржуазную сфокусированность на обмене ущерб учёту жестких материальных реалий производства. Каратани решительно обозначил эту критику как устаревшую. В то же время его типология способов обмена может вызвать у антропологов (по крайней мере, у меня) чувство дежавю, которое я стараюсь развеять, потому что я абсолютно уверен, что мне еще предстоит постичь всю тонкость его теории. Однако мне уже ясно, что его аргументы об отношениях между капиталом и национальным государством являются очень новаторскими — и революционными.
Само собой разумеется, что я читаю его работу с намерением укорениться в своем тщеславии “стратегического примитивизма”; Режим Каратани [6], его восстановление Царства Целей (Kingdom of Ends), по моему мнению, должен приветствовать всех живых существ (и их “неживые” режимы существования), другими словами, покончить с абсурдным антропоцентризмом кантовского различия между людьми и вещами, целями и средствами, людьми и другими живыми существами. Царство Концов не монархическое, а анархическое.
Ю.Х.: Я помню, что в 1990-х годах Каратани защищал возможность “движения потребителей”, и активно экспериментировал с “Системами местной торговли и обмена”. В некотором смысле я предполагаю, что переход от производства к обмену также является признанием исчезновения рабочих как революционных субъектов, что, пожалуй, верно и сегодня. Другой мотив, который, я думаю, имеет отношение к нашей дискуссии, заключается в том, что он видит ограниченность “Империи” Хардта и Негри, поскольку национальные государства играют ключевую роль в развитии капитализма, признание, которое было расшатано в тезисе Хардта и Негри[7]. Каратани хочет преодолеть троицу «нация-государство-столица». И в нашей дискуссии неизбежно столкновение с темой отношений между местностью и национальным государством, поскольку первое может быть легко преобразовано в форму национализма или фашизма, как, например, в дискурсе Национального фронта во Франции или AfD в Германии. На примере многих стран мы видим, что дискурс о локальности на самом деле является не более чем национализмом, способствуя мононатурализму, участвуя в глобальной экономической конкуренции и военной экспансии (это означает продолжение мононатурализма, экологические катастрофы и стремление к “прогрессу” с восемнадцатого века). Вы рассматриваете это в качестве “вызова” стратегическому примитивизму?
Э.В.К.: Если коротко , то я бы сказал, что концепция локальности противоположна национализму, который является просто исключающим универсализмом, или универсализмом сжатым. «Местное» — это не субнациональное. Это скорее идея о том, что существуют другие местные. Переиначивая известное определение: локальное — это образ мира как круга, в котором окружность находится везде, а центр — нигде.
Примечания
1. Hallowell, “Ojibwa Ontology, Behaviour, and World View.”
2. Viveiros de Castro, “And: After-Dinner Speech Given at Anthropology and Science”;
Viveiros de Castro, “Who Is Afraid of the Ontological Wolf?”
3. Viveiros de Castro, Cannibal Metaphysics.
4. Frase, Four Futures.
5. Tsing, Mathews, and Bubandt, “Patchy Anthropocene.”
6. Karatani, The Structure of World History.
7. Hardt and Negri, Empire.
Литература
Frase, Peter. 2016. Four Futures: Visions of the World After Capitalism. London: Verso.
Hallowell, A. Irving. 1976. “Ojibwa Ontology, Behaviour, and World View,” in Contributions to Anthropology: Selected Papers of A. Irving Hallowell. Chicago: University of Chicago Press.
Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2000. Empire. Cambridge, MA: Harvard UniversityPress.
Karatani, Kojin. 2014. The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange, trans. Michael K. Bourdaghs. Durham, NC: Duke University Press. https://doi.org/10.1515/9780822376682
Tsing, Anna Lowenhaupt, Andrew S. Mathews, and Nils Bubandt. 2019. “Patchy Anthropocene: Landscape Structure, Multispecies History, and the Retooling of Anthropology,” Current Anthropology 60, Supplement 20 (2019): S186–S197. https://doi.org/10.1086/703391
Viveiros de Castro, Eduardo. 2003. “And: After-Dinner Speech Given at Anthropology an Science, the 5th Decennial Conference of the Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth.” University of Manchester. Unpublished.
Viveiros de Castro, Eduardo. 2014. Cannibal Metaphysics, trans. Peter Skafish. Minneapolis: Univocal.
Viveiros de Castro, Eduardo. 2015. “Who Is Afraid of the Ontological Wolf? Some Comments on a Current Debate,” Cambridge Journal of Anthropology 33(1): 2–17. https://doi.org/10.3167/ca.2015.330102
